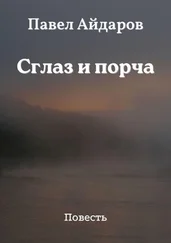— Чего пристаешь? — удивлялся Тимошка. — Не могу я с постной рожей ходить. Кому я худо делаю? Сам я веселый и ребят веселю.
— Я тоже веселый, а не кривляюсь.
— Все придираешься, а еще друг, — обижался Тимошка.
— Потому и придираюсь, что друг. Ясно?
Сашка выстирал Тимошке рубаху, пришил пуговицы. Потом даже подарил ему складной ножик.
Благодарный Тимошка взволнованно предложил ему:
— Хочешь… хочешь я стащу для тебя на кухне сахару? Хочешь?
— Тогда совсем откажусь от тебя, — помрачнел Матросов. — Забыл уговор?
— Ну, не сердись… не буду.
Матросов вошел в общежитие веселый, с сознанием хорошо выполненных обязанностей, но увидел там хмурого Кравчука и насторожился. И верно, воспитатель опять недоволен:
— На столе и на тумбочках разбросаны разные вещи, — ворчит он, — а каждая вещь должна быть не брошена, а положена на свое место. Понятно? На полу валяются клочки бумаги; а под ноги даже на улице ничего бросать нельзя, — ясно? А вчера вечером ты громко стучал сапогами, когда товарищи уже спали, а надо было пройти на носках, оберегая их покой. Чутким надо быть, — понятно?
Матросов поднял с пола клочок бумаги, мрачно сдвинул брови: упрекам Кравчука, видно, конца не будет.
— Вы просто придираетесь ко мне! — резко сказал он. — Все не так! Не угодишь никогда вам…
— Нет, не придираюсь, а требую. Ясно? А ты, видно, еще не хозяин своего слова. Сам ведь просил требовать…
— Ничего у меня не получается, — с отчаянием заявил Матросов, — хоть пилой накрест перепилите меня…
Но Кравчук уже подмигивает лукавым глазом:
— Ты, брат, не прибедняйся. Захочешь — все получится. Человек ты или муха? Как думаешь?
От шутки воспитателя повеселел и Сашка.
— Вроде бы человек, — усмехнулся он.
— А человек все может, вот и докажи. Будь хозяином своего слова.
— Хорошо, не дите малое! — сказал Матросов, упрямо вскинув голову. — Буду хозяином своего слова. Сказал буду — и буду!
Когда Кравчук вышел, Сашка с ожесточением смял поднятый с пола клочок бумаги и по старой привычке опять швырнул его под ноги. Клочок упал на видном месте между койками. Сашка тут же спохватился: надо было бросить этот клочок в урну, — она всего в пяти шагах. Но наклоняться и поднимать бумажку уже не хотелось. Подумаешь, пустяк: землетрясения не произойдет, если он и не поднимет эту бумажку. Но эта скомканная синяя бумажка (видно, с тетрадочной обложки) будто издевалась над ним, проклятая, была словно укором совести. Сашка оглянулся вокруг: не смотрит ли кто на него, — и со злостью поддал бумажку ногой. Скомканная бумажка, словно шарик, полетела под кровать — к стене.
«Но ведь это такая мелочь!» — оправдывал он себя. А что сказал бы Кравчук? Ну да, значит, у него, Сашки, нет воли и настолько, чтобы заставить себя поднять эту бумажку. И, проклиная этот синий клочок бумаги, он полез на четвереньках под койку, стукнулся лбом о ее железную перекладину, достал злополучную бумажку и бросил в урну. И — странно — сразу на душе стало легче.
Но хотя Сашка и навел в общежитии порядок и с Кравчуком они расстались дружелюбно, плохое настроение у него было до конца дня. В самом деле, всегда у него какая-нибудь проруха!
Вечером он пошел в библиотеку.
— Пришел? — приветливо встретила его библиотекарь, Евгения Ивановна. — А тут есть свежие журналы — «Огонек», «Наука и техника».
Саша дивился неутомимой подвижности этой уже немолодой, с виду слабенькой женщины, так умело управляющей волшебным миром книг, и проникался все большим уважением к ней.
Вошел Клыков, как всегда, шумно и небрежно швырнул на стол библиотекаря растерзанную книгу. Евгения Ивановна с мучительным выражением на лице тотчас же подхватила книгу, как ушибленного ребенка. Ей показалось, что корешок с полуистертыми следами золотого тиснения сейчас только лопнул.
— Я тебя оштрафую, я тебя накажу! — говорила она Клыкову, листая книгу, бережно расправляя загнутые углы. Голос ее дрожал, глаза блестели от слез. — Ну да, так и есть! Целые страницы вырваны, папиросная бумага, прикрывавшая иллюстрации, вырвана. Книгу могли почитать еще сотни людей, а ты изуродовал ее! Я не дам тебе больше ни одной книги…
— Нашли, чем стращать, — засмеялся Клыков. — Не хлеба лишаете. Проживу и без ваших книжонок.
Евгения Ивановна, утирая глаза, ушла за стеллажи.
Матросов вскочил, подбежал к Клыкову, маленький в сравнении с ним, взъерошенный, как еж:
— Я тебе глаза выцарапаю! Деревянный истукан! Извинись перед ней. Сейчас извинись, а то поздно будет. Знаю, ты на цигарки вырывал листы.
Читать дальше
![Павел Журба Александр Матросов [Повесть] обложка книги](/books/399284/pavel-zhurba-aleksandr-matrosov-povest-cover.webp)
![Павел Ковалев - Красный ледок [Повесть]](/books/29080/pavel-kovalev-krasnyj-ledok-povest-thumb.webp)