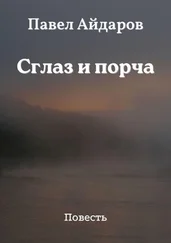— Клыкова, — поправил Кравчук.
— Я свалил… Но жаль только, что стекла разбили, а его не жаль. Сам он — лентяй, драчун, дармоед, да еще, понимаете, сбивает с толку слабовольных ребят, зовет к бродяжничеству.
— Постой, постой, — прервал его Кравчук. — Так ты что, извиняться решил или обвинять? По-моему, расправляться боем можно только с врагами на войне, а Клыков ведь не враг. И мы его тут держим, чтобы воспитать из него хорошего человека, — понятно? Так если ты сознательный, — помоги нам в этом. А ты что делаешь?
— Да нет, я виноват, конечно. Виноват, что стекла побил и что… что Скуловорота…
— Клыкова, — опять поправил Кравчук и недовольно заметил: — И потом, знаешь, не нравится мне, что ты его за глаза порочишь. Надо иметь мужество в глаза говорить человеку о его недостатках. Кто тебе помог спустить его с лестницы?
— Я один.
— Опять неправда. Он пятерых таких, как ты, сомнет.
Матросов рассказал, как было дело.
— Я один виноват, меня и наказывайте!
— За откровенное признание вину твою прощаю, но знай: если ты на словах только хочешь быть лучше, а на деле будешь поступать по-прежнему, нам с тобой не сговориться. Не люблю пускать слова на ветер. Говорят, хорошее слово веско и ценно, как золото, а пустое — летит по ветру, как шелуха…
Матросов молчал, опустив глаза.
— Не понимаю, из-за чего ты враждуешь с Клыковым, — сказал Кравчук. — Вы же будто дружили?
— Сказать правду, Трофим Денисович, я сам с Клыковым поступил подло…
— Да-а? В чем же, не секрет?
— Был секрет, конечно, теперь — дело прошлое… Я дал ему обещание и нарушил его. Хорошо ли это?
— Плохо, конечно. Какое обещание?
— Бежать из колонии решили мы, а я помешал. Вот он и бесится.
— Ах, вот оно что! — улыбнулся Кравчук. — Так ты, брат, хорошо поступил.
Матросов обиделся:
— Вам смешно, Трофим Денисович. Говорите: то «плохо» я поступил, то «хорошо», — а как же будет верно?
— Да ты не сердись, Александр, — серьезно сказал Кравчук. — Конечно, в этом случае ты хорошо сделал, что нарушил ошибочно данное тобою слово, предотвратил беду — свою и товарища.
Матросов облегченно вздохнул: хорошо, что воспитатель снял с него тяжелую обузу.
Но трудности только подстерегали Матросова. Они порой складывались будто из мелочей, но все-таки нелегко было преодолевать их.
На другой же день Кравчук заметил ему:
— Что же ты, Александр? Председатель санитарной комиссии должен быть примером чистоты и аккуратности, а у тебя вид, прямо скажем, неряшливый. Пуговицы на спецовке оборваны, тельняшка будто у трубочиста…
Александр нахмурился. Самолюбие его задето, но он промолчал. Как скажешь воспитателю, что сегодня в очередной схватке с Клыковым он испачкался и отлетели пуговицы? Матросов недовольно подумал: «Будет он теперь меня всегда утюжить, раз я сам на себя добровольно хомут надел…»
— По-моему, правильно говорят, — уже мягче сказал Кравчук, — что воспитание характера начинается с мелочей. Пренебрегая малым, не сделаешь и большого. Как думаешь?
— Вроде так…
В обеденный перерыв Александр привел в порядок одежду, сам в пруду выстирал тельняшку.
Когда шел от пруда, встретил Тимошку, накинулся на него:
— Да ты, Тимошка, прямо позоришь меня! А еще другом называешься! Вид у тебя неряшливый. Пуговицы оборваны, на рубахе — дырка, лицо, как у трубочиста.
— Так ведь с графом сражалися! Забыл? — подмигнул Тимошка. — А я, понимаешь, не умею ни мыть, ни шить.
— Эх ты, неумелка горькая! Ну, снимай рубаху!
Тимошка доставлял ему немало огорчений. То он углем или сажей разрисовывал себе усы и бороду, то чернилами пачкал лицо, и казалось, что оно в синяках и кровоподтеках. Ребята хохотали; не мог удержаться от смеха и Матросов. И верно, уж очень смешно все получается у Тимошки. Пусть потешает ребят. Какое ему, Сашке, дело до Тимошки? Но Сашка вспоминал прошлое, и его передергивало: вот так же Тимошка паясничал на базарах, потешая зевак. И здесь, кажется, не больше уважают Тимошку за его чудачества. Брызгин прямо считает его никчемным пустомелей. «Но ведь Тимошка — друг мой? — думал Сашка. — Вместе когда-то хлебнули горюшка… Честь друга — и моя честь». И Сашка отводил Тимошку в сторону, злился:
— Ты мне брось этот базарный пережиток! Зачем опять разукрасился, как шут гороховый, и кривляешься?
— Чтоб смешней было, чудак, — невозмутимо отвечал Тимошка. — Не понимаю, — чего ты воздействуешь на меня?
— Кулаками по ребрам воздействовать буду на тебя, если не перестанешь паясничать. Понял?
Читать дальше
![Павел Журба Александр Матросов [Повесть] обложка книги](/books/399284/pavel-zhurba-aleksandr-matrosov-povest-cover.webp)
![Павел Ковалев - Красный ледок [Повесть]](/books/29080/pavel-kovalev-krasnyj-ledok-povest-thumb.webp)