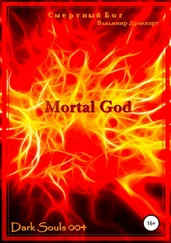Он замолкает, смотрит пустым взглядом за окно, то ли в прошлое всеми помыслами ушел, то ли ждет терпеливо, не появится ли на тихой улице жена его Долли Зарайская. Но мне хочется знать, как дальше сложилась их жизнь, и я осторожно спрашиваю:
— Это когда же вы поженились?
— Третьего сентября сорок седьмого года расписались. И зажили втроем здесь вот, в этом помещении. Я, конечно, тогда на заводе крепко вкалывал: наголодались они оба без меня. Какие у библиотекарши доходы на двоих по тем временам? Ну я и стараюсь их всем обеспечить. Живем тихо. Ни криков, ни драк. Жена вроде веселая, довольная. Только знаю я — нету у нее ко мне сердца. Я не обижался: вижу, ломает себя, чтобы мне польстить, а сердце ведь враз не сломаешь. А года через два уехал я в командировку, тут же у нас на Урале, на новый завод опыт, значит, свой передавать. И был там неделю всего. Приезжаю ночью домой — нет жены моей Долли Зарайской. Игорек у соседки, у Маши, спит. А ее нету. Где она? Неизвестно. И тут как стукнуло меня. Пошел я к себе домой, где мы с матерью, покойницей, раньше жили. Она, значит, умерла, а я там оставался прописанным — хотела Долька, чтобы у меня своя комната оставалась. Видать, не верила, что надолго у нас. У нее ключи были, она туда иной раз уборку сделать заходила, пыль вытереть, того-сего. Прибежал к дому, хочу в квартиру войти — ключ никак в замок не лезет: руки, что ли, у меня трясутся. Тыркался я, тыркался, наконец отворяю. А она уже по коридору мне навстречу бежит. В халатике. Босиком. «Ох, — шепчет, чтобы соседей не разбудить, — не ждала, что ты сегодня появишься. Тут племянник моего папы приехал, так я его сюда переночевать привела, да поздно заговорились…» Вхожу в комнату. Поворачиваю выключатель — нету света. Лампочка, что ли, перегорела. Или вывернули ее. Однако окно большое, второй этаж, на улице фонарь под окном. Все в комнате и так видно. На койке, вижу, лежит кто-то, на голову одеяло натянуто.
А на полу — голая простыня брошена и подушка на ней. «Что же это, говорю, за непорядок: мужчина на койке отдыхает, а дама на голом полу без одеяла даже?» И не удержал руку, конечно, врезал ей слегка по шее. «Это Петька, что ли, разлегся?» — спрашиваю. «Неважно кто, — она спокойно отвечает. — Хорошо, что так получилось: не могу, Витя, я с тобой жить. На развод подаю». — «С ним, что ли, жить будешь?» — «С ним, — говорит, — не буду — слово даю. И с тобой не буду». Ну, от таких заявлений мне уже не до Петьки этого. Увел я ее домой. Урезонить хочу. Молчит. А назавтра подает заявление о разводе. Только в те времена это долгая волынка была — сперва объявление в газете требовалось, которого люди по полгода ждали. Идет время, но она своего мнения не меняет. Как захолодела вся. Тут я, конечно, загулял маленько. И как раз надумал глупость эту — продавать маузер Вальке Линькову. Сижу я до суда — она на каждое свидание ко мне ходит, передачи носит. В этот момент и объявление наше в газете напечатали. А как припаяли мне год, пришла она на свидание и говорит: «Я заявление о разводе назад взяла. Отсидишь, вернешься, тогда думать будем…» Глянул я на нее. И сказать ничего не могу. Как осенило меня, какой есть человек моя жена Долли Зарайская. Дружок беззаветный… Она ко мне ездила, передачи возила. Я недалеко, здесь же на Урале, сидел. И там, значит, такое дело вышло…
Что произошло с Виктором Карасевым в заключении, мне узнать так и не удалось. Он вдруг весь пружинится, дергается как-то, отворачивается от окна и идет куда-то.
— Идите сюда, — приглашает он и меня за собой. — Горит небось душа? Ничего, счас приступать будем…
Но прежде чем отойти от окна, я успеваю увидеть, как по тихой улице торопливым легким шагом приближается к дому хрупкая, легкая женщина с большой хозяйственной сумкой в руке. Двигаясь от окна за Карасевым, я догадываюсь, что мы отправимся на кухню, готовить закуску. Но ошибаюсь. Виктор спокойно садится к столу, ждет, когда я тоже займу свое место, и говорит, как будто ничего не произошло:
— Теперь могу изложить все про Борьку Андриевского. Был он, конечно, парень умный. Умней меня — это уж точно. Пообразованней тоже. Однако дурости нашей и у него хватало. Недоделанные все-таки мы маленько были. В возраст, что ли, еще настоящий тогда не вошли? Или война нас в детстве сверх положенного задержала? Кто его знает. Однако помню, как Борька про будущую свою мирную жизнь на гражданке мечтал…
Письмо Тане от 24 января 1945 года
Милая Таня! Не писал долго, потому что воевал много. По всей вероятности, ты, не получая это время от меня писем, решила и сама не писать. Это уж ни к чему. Я сейчас наверстываю упущенное: каждый день пишу по письму. Правда, писать не о чем. Вот если бы я воевал — тогда другое дело. Работы почти никакой нет. Сижу-посиживаю круглый день в земляночке. От безделья и ночью не спится. Вот и сейчас уже два ночи: читал — надоело — решил писать. Хоть бы Ванька скорей приезжал: с ним как-то веселее. Сейчас начальник приехал из академии, гудит помаленьку. Смех и грех. Дает хлопцам прикурить. Ну, со мной живет пока хорошо. Придет только ко мне в землянку немножко утихомирить, а то, говорит, ваши песни на километр слышно. Уж больно мы с Женей горластые. Людишек у меня сейчас мало, так что отдыхаю вполне заслуженно. Сегодня проявил начальник мой отцовскую заботу: предложил мне повеселиться с вашим братом и прочими штучками. Ну да я уж больно крепко свое слово держу. Да и вообще неохота, лучше уж пересилю это дело. Думаю вообще отсюда сорваться куда-нибудь в другое место. Подавал рапорт, но не отпускают. Вообще-то и здесь неплохо, но надоело, и тем более учиться: не отправляют, а век барабанить по лесам и болотам, стрелять, и только, — надоело. Хочется чего-то новенького. Но пока это только проекты. Воевать, по всей вероятности, будем не скоро: опять нехорошо! Как бы было хорошо скорее ворваться в Германию!
Читать дальше
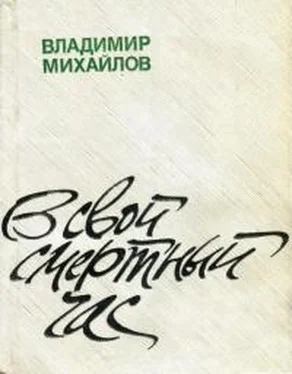







![Владимир Упоров - Смертный Бог [СИ]](/books/411019/vladimir-uporov-smertnyj-bog-si-thumb.webp)