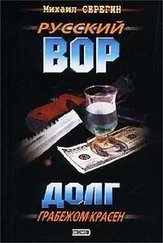Солдат сейчас понял, что в темноте они сбились с пути, взяли левее, это чувство родилось в нем раньше, когда опустела дорога, а сейчас он окончательно уверовал в это, и потому солдат пошел по берегу в ту сторону, где, по его твердому убеждению, должна была быть переправа. Вскоре он появился в серой предрассветной мути, крикнул веселым голосом:
— Кузьмич! Тут дорога идет по берегу. Заводи, поехали.
И они поехали. И нашли переправу.
Под берегом, у съезда, еле видный в редеющей мгле, стоял небольшой паром. На темном, сером фоне воды проступали силуэты крытой машины, повозок, людей, и паром должен был, видно, отходить от берега, но водитель посигналил, пыхнул фарами и, стараясь не угодить мимо сходней, въехал на глухо забарабанившие доски. Благо место на пароме нашлось.
И уже когда отошли, солдат, приглядевшись из заляпанной грязью кабины к тому, кто управлял паромом, почувствовал, как тошнота подходит к горлу: это был немец. Расставив ноги для упора, он сосредоточенно работал деревянной ручкой, блок поскрипывал, канат, удерживающий плот на быстрой воде, был натянут, как струна. От машины, от повозок доносилась негромкая чужая речь.
— Ё-о мое! — сдавленно протянул солдат.
— Влипли, — с большей определенностью сказал водитель. — Сами к немцам в плен чешем. — И он застонал, как от зубной боли.
— Тихо, тихо, Кузьмич…
Солдат после уже понял, на какой шел риск, когда перелез в еще не рассеявшейся темноте в кузов, отодрал доски ящика, нащупал рубчатую ручку в заводской смазке и с отчаянным криком «Хенде хох!», с этими ходовыми в небогатом солдатском лексиконе немецкими словами, встал посреди кузова с высоко поднятой противотанковой гранатой. Этот крик ударил по группе немцев, человек в десять, стоявшей между повозками и машиной, они оторопело глядели на невесть откуда взявшегося русского солдата. Один было бросился к повозке, видно, за автоматом, но его толкнули обратно свои же, он притих, сбычившись; о настил парома брякнуло — кто-то бросил оружие, — потом еще брякнуло, еще… Только тот, методически работавший ручкой, продолжал свое дело, и тихо наплывал серый противоположный берег.
Уже после понял солдат, что какой-нибудь притаившийся за машиной немец мог срезать его короткой очередью, но этот отчаянный, инстинктивный шаг сделал свое дело… Да и немцы на пароме оказались не те: обозные, по всей видимости, плетущиеся за ненадобностью в арьергарде боевых войск, которые, используя свою высокую подвижность, первыми утекли за Ипель. Эти были попросту брошены на произвол судьбы. И видимо, сообразили, что́ станет с паромом и с ними самими, если этот фанатик в самом деле грохнет о пол гранатой ударного действия.
Днище парома проскребло о прибрежный песок. И тут немцы, будто сговорившись, бросились в воду и, что-то крича, нелепо размахивая руками, проламывались в тяжелых темных брызгах; тот, от ручки, тоже было кинулся. «Цурюк!» — остановил его солдат еще одним словом из своего небогатого лексикона, и тот вернулся на место. Кузьмич бегал с винтовкой, ища просветы между машин и повозок, выпустил всю обойму наугад, но не попал, чертыхнулся, поднял капот своей машины, решил, видно, проверить зажигание, пока суд да дело.
— А, драпаете, вояки! — хохотал солдат.
Паром медленно тронулся обратно. Совсем уже рассвело, когда подошли к своему берегу, поэтому солдат без труда увидел на разъезженном спуске к воде группу людей, несколько машин, отцепленные пушки с пробеленными щитками — стволы глядели на воду. «Шарахнут сейчас и — поминай как звали», — прожгла солдата мысль на знобком речном ветру. Он подбежал к борту, схватил с головы шапку, заорал что есть мочи:
— Свои! Свои!
Но там уже видели, что свои, да, наверное, никак не могли взять в толк, по какому случаю паром идет от вражеского берега! А потому ждали молча, на всякий случай развернув легкие пушки стволами к реке.
Когда паром ткнулся в берег, солдат спрыгнул, побежал в горку и тут же признал своих батальонных, кому и вез боеприпасы; все выходило так, как он и думал, — нашлись, куда денутся! Но те почему-то мялись, не выказывали восторга, кто-то сказал:
— Ты вон майору доложись, — и кивнул в сторону.
И только тут увидел солдат майора в новенькой шинели, в щегольских сапогах, изучающе, с прищуром глядевшего на него.
Капитан Меркулов в постоянном своем корреспондентском кочевье любил завернуть в 7-ю гвардейскую армию к начальнику политотдела генералу Красноперцеву. Был тот гостеприимен, главное же — любил газетчиков, ценил нелегкий, а подчас и неблагодарный их труд и в разговоре никогда не допускал, как, случалось, иные, ноток этакого иронического превосходства. Ну как, мол, все пишем? Это был трудяга, сам все время лазал по передовой, а возвратясь и прочитав политдонесения из корпусов, нередко подвергал их серьезным коррективам, основываясь на собственных свежих впечатлениях и оценках, прежде чем составить соответствующую бумагу в политуправление фронта. И еще была практическая нужда, заставлявшая капитана Меркулова часто общаться с генералом Красноперцевым: генерал всегда мог подсказать, где вершится или созревает горячее дело, куда нужно обратить корреспондентский взор, чтобы не возвратиться в редакцию с пустой сумкой. И, что ценно, никогда при этом не руководили генералом местнические интересы. Бывало так, что, встретив Меркулова в войсках армии, генерал говорил, разведя руками: «Дохлое дело, стоим, брат. Ты дуй к танкистам, они к прорыву готовятся».
Читать дальше




![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)