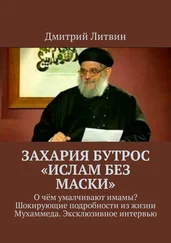Молодой Димаков тоже не отводил глаз от Екатерины Гавриловны, не отступал от двери, как бы состязаясь с хозяйкой в упорстве, и продолжал проявлять свою догадливость:
— Наверно, вкалывают на заводе сверхурочно, план к концу месяца подгоняют.
— У Виктора есть еще и своя сверхурочная, — заметила на это Екатерина Гавриловна.
— Это какая же такая? — сразу пожелал разузнать Димаков.
— Такая, какая надо.
— Да скажи, теть Кать, не скрытничай, все равно узнаю.
— В народном суде заседателем он.
Она ничего не хотела рассказывать про Виктора, но, когда это вырвалось, не пожалела. Пускай димаковский отпрыск лишний раз услышит о правосудии — ему это не помешает. В порядке профилактики, как сказал бы Виктор.
Димаков, однако, не оробел и не смутился, он только сказал:
— Делать нечего, придется подождать.
И Екатерина Гавриловна невольно отступила от двери, пропуская его в квартиру.
Пока гость снимал свой запыленный, но и сквозь пленку пыли лоснящийся молочно-белый мотоциклетный шлем, пока зацеплял его ремешком за крючок вешалки, пока ставил в угол под вешалкой короткий тяжеленький ружейный чехол, Екатерина Гавриловна откровенно, только что не вслух, ругала себя и заодно жалела. Прожив немалую и не скупую на всякие уроки жизнь, она не единожды убеждалась: поступай с людьми по первому душевному побуждению. Попросилась на твое лицо улыбка при встрече с приятным человеком — не сдерживай ее, не пожалей ни улыбки, ни доброго слова. Захотелось тебе дверь перед чьим-то носом захлопнуть — тоже не откладывай дело надолго, иначе потом пожалеешь, да будет поздно. Ей уже сейчас, в самые первые минуты, трудно было с этим гостем, а как же дальше? О чем говорить? Неизвестно даже, куда вести его — на кухню или в комнату? На кухню, так хочешь не хочешь надо чаем поить, в комнату — вроде как в жизнь семьи впускать…
— А это вот вам, теть Кать, — развесив и расставив все свое снаряжение, протянул Димаков оставшуюся в руках сетку.
— Что это? — отшатнулась Екатерина Гавриловна, ничего не желая принимать от Димаковых.
— Белые, боровые.
Екатерина Гавриловна все еще раздумывала: брать или не брать.
— Не бойся, не поганки, — усмехнулся Димаков, почти любуясь ее растерянностью. — У вас в городе сейчас, наверно, никаких не купишь — не пускают в леса грибников-то.
— И правильно делают, что не пускают.
— А леса все равно горят. Да еще как!
— Наверно, из-за таких вот…
Екатерина Гавриловна готова была и за это Димакова винить, однако вовремя вспомнила, что он не только ходит по лесу, но и числится в каких-то там охранителях — не то в лесничестве, не то в охотхозяйстве. Поэтому поправилась и сказала другое:
— Плохие, видать, сторожа в лесах.
Димаков намек понял, но вида не подал, обиды не выдал и стал покладисто объясняться:
— Не в том дело, теть Кать. Народ себя слишком хозяином почувствовал. Все наше — значит, все мое. Куда хочу, туда иду, чего хочу, то беру.
— Хороший хозяин и берет без вреда.
— Так все больше ваши, городские, — продолжал Димаков, нагоняя на себя озабоченность. — Как понаедут со своими транзисторами да топориками — лес трещит и воет.
— Да вы-то зачем там поставлены? — рассердилась Екатерина Гавриловна.
— Один в лесу не воин.
— Один, как же!
Даже не поблагодарив за грибы, она пошла в кухню, освободила там димаковскую сетку, развернула газету. Грибы все были как на подбор: некрупные, даже по виду крепкие, с чуть подсохшей кожицей на шляпках, но явно свежие, утренние. Они слегка размягчили душу хозяйки, напомнили давнее-давнее детство, и, вернувшись к Димакову, чтобы отдать ему сетку, Екатерина Гавриловна обратилась к нему уже без видимой неприязни:
— Вот ты говоришь — городские, а знаешь, сколько народу отправляют от нас в леса? И народу, и техники всякой.
— Теперь-то отправляют, — согласился Димаков.
— Виктор звонил — тоже едет завтра со своими.
— Не говорил, в какой район? — полюбопытствовал Димаков.
— Не говорил… Ну так пойдем в комнату, что ли? — пригласила Екатерина Гавриловна.
В комнате была открыта дверь на балкон, и уличный воздух шевелил невесомую, как дымок, нейлоновую занавесь, отчего создавалось ощущение легкой прохлады. Как нечто дорогое и минувшее мимолетно вспомнился Екатерине Гавриловне тот недавний тихий час, когда она сидела здесь одна, за вязаньем, выставив на солнце свои нездоровые ноги. Петля за петлей нанизывалась на спицы, и спокойные, необременительные мысли не спеша катились по мягкому и гладкому руслу, как воды луговой небыстрой речушки, — только клонится в одну сторону трава у берегов да серебрятся невидимые струи. На паркетном полу стояла сильно потемневшая от времени берестянка — стародавний подарок Павла Шувалова, из нее тянулась к спицам шершавая шерстяная нитка, и уже виделся, узорчато рисовался свитерок для внука. Начищенный паркет, поблескивая на солнце, временами резал глаза, но это не сердило, а чуть ли даже не радовало старшую хозяйку дома. Потому что и натертый паркет, и эта невесомая дымчатая занавеска, и новые, только весной наклеенные финские обои на стенах, похожие на мешковину, и новая чехословацкая мебель, купленная не так давно, — все говорило о благополучной, хорошо наладившейся жизни. «Вот и дождалась я всего, чего хотела и для себя и для сына», — не раз подумывала в эти годы Екатерина Гавриловна. И не одному только материальному достатку радовалась, важнее того была сама семья, сложившаяся хорошо. Сын с невесткой живут дружно и не скучно, внук растет — дай бог не сглазить! — здоровым и умненьким. Купается сейчас в мелкой воде на заливе, бегает с другими ребятишками по теплому песку, и все там для них вовремя приготовлено, все чистенькое, за всеми следят. У него совсем другое детство, чем у Виктора, было. Тогда приходилось на целый день одного оставлять — только после смены как следует и покормишь-то. У людей да во дворе рос…
Читать дальше
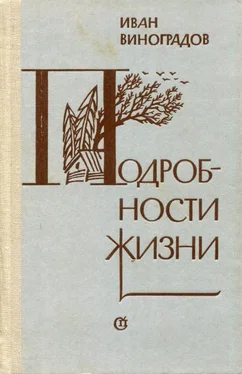

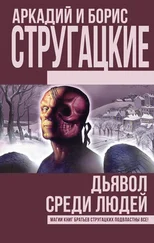
![Иван Виноградов - В центре Европы[Аврора, 1985, № 7]](/books/80934/ivan-vinogradov-v-centre-evropy-avrora-1985-thumb.webp)