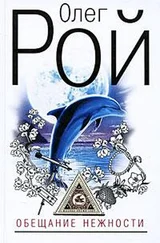Макеев тряхнул головой, и канаты и смерчи пропали, и перед ним отчеканился смуглый Раин профиль, завиток над бровью. Рая сидела рядышком, близко-близко, касаясь его плеча своим плечом. Он не отодвигался, стремился разобрать, что она говорит, отвернувшись (у нее была привычка говорить, не поворачиваясь к собеседнику, и надо было прислушиваться не без напряжения).
— Поверите, Саша, зима была лютая, голодная, весна поздняя, затяжная. Грачи в марте прилетели, а мороз и снег, жучки-червячки не оживели, нечего птицам есть. И грачи заодно с воронами да воробьями искали, что поклевать на свалке. Поверите, аж горько стало: бедняги грачи, голодуха прижала и вас, гордых…
О чем она? О грачах, как они пищу искали. Почему? Наверное, он пропустил переход в разговоре, фантазировал с канатами и смерчами и прозевал, когда Рая заговорила о грачах. Макеев слушал ее, думая о том, что запамятовал, не выпил лекарств, да и не к месту глотать пилюли и порошки, — как бы он выглядел? Слушал, отгоняя от себя воспоминание о совете Фуки не тушеваться, действовать. Уж было отогнавши, вдруг, как в озарении, во вспышке вспомнил Илькины слова и не забывал больше, мысль засела в мозгу и словно покалывала: сробеешь — будешь жалеть всю жизнь. А если то, что будет или что может быть, глупость? Значит, совершить глупость? Но когда же совершать необдуманные поступки, когда же глупить, как не в двадцать лет?
Чтобы совершать глупости, надо быть уверенным в себе, красивым, симпатичным. Уверенности у него и в помине нет. Красивый, симпатичный? Низенький, полненький, с невыразительной, заурядной физиономией. Орел мужчина! Сам себе противен. Себя, впрочем, можно стерпеть. А стерпит ли женщина? Напора бы ему, нахрапа, как у Ильки. Самую бы малость. Крепости сдаются смелым и напористым.
— Рая, — сказал Макеев хриплым, осевшим голосом. — Подышим вольным воздухом?
— Подышим, — ответила она, не отвернувшись на этот раз.
На крыльце они стояли — он на нижней ступеньке, она на верхней — и ежились от вечерней сыри. Рая попыхивала добытой у Фуки папироской — до этого не курила, — Макеев разглядывал небо. Очерченное козырьком крылечка и дальней линией леса, оно выгибалось, посвечивая затмевавшей звезды луной; посреди его лохматилась туча. Макеев любил глядеть на тучи в ожидании, когда они сыпанут дождинами. Однажды, так вот запрокинувшись, созерцал тучу под Борисовом, а из нее посыпался не дождь, а пепел — туча была с пожарища. И сейчас он припомнил это.
— Саша, если б фашисты угнали меня в Германию, на каторгу, я бы вас никогда не увидала. А не угнали потому, что хромоножка. Как говорят: не было б счастья, да несчастье помогло.
«Смеется? Что за счастье — повидаться со мной? — подумал Макеев. — А вот хромота для женщины — несчастье, это уж точно».
— И партизаны не брали к себе хромую… Еще в детстве упала с крыши, перелом, срослось неправильно.
Макеев деликатно покашливал, выжидая, что еще скажет Рая. И она сказала:
— Мне плохо будет, когда все кончится. Когда уйдете…
Еще ничего не начиналось, а она: когда кончится. Шутит? Не похоже. Голос вроде грустный. Да что же действительно веселого: расстанутся, не успев повстречаться?
Тишина окутывала землю, и лишь теперь Макеев сообразил: канонады нет. Прислушался. Не слыхать. Танковый гул — слыхать, это где-то там, где за лесами багровело зарево. Артиллерия перестала бахать, пора бы и танкам угомониться. Отлично, когда на земле тишина. И чтоб луна продолжала сиять. И чтоб по соседству с ней лохматилась туча, обещающая теплый летний дождь, а не пепел с пожарищ.
— Не думайте про меня дурное, — сказала Рая.
— Что вы! Я не думаю дурное.
— Поймите, я благодарна судьбе. Вы здесь. И для меня это, правда же, радость. Какая б ни была короткая… Что с вами будет завтра? Со мной? А покамест вы рядом…
Она тронет мою руку, пожмет пальцы. Поцелует в губы. Или попросит об этом, как в избе. Пускай попросит. Я выполню просьбу.
Однако Рая не сделала этого. И тогда Макеев взял ее за руку, поцеловал в ладошку, а затем, привстав на цыпочки, поцеловал в губы. Ладонь была шершавая, мозолистая и горячая, губы тоже горячие. Но от этого жара, будто перекинувшегося на него, Макеева зазнобило.
Он поднялся на ступеньку, обнял Раю, и они замерли. Его знобило все сильней, дрожь накатывала волнами, сотрясала тело. Потом озноб колотил уже не волнами, а постоянно, нарастая, становясь нестерпимым. Господи, согреться бы! Холодно, тепла бы немножко!
Читать дальше