Смирнов Олег Павлович
Северная корона
Пни от спиленных в ноябре берез и елей зиму простояли сухими, а по весеннему теплу стали исходить пузырчатым соком, будто заплакали запоздало над судьбой загубленных деревьев.
Медведь старался обходить эти кровоточащие пеньки, но его покачивало, и он то и дело натыкался на них, мазался липким соком. А в густой, нетронутой березовой роще он задевал стволы. Кора пачкала его бурые бока, словно известкой. Медведь был огромен и худ, шерсть местами вылезла, висела клочьями, карие глазки были горячечны и злобны.
Осенью, когда на жухлую траву пал крутой иней, медведь забрался в берлогу под корневищем вывороченной бурею сосны. Отъевшийся ягодой, он тяжко сопел, утрамбовывал подстилку, устраивался поудобнее. Но едва перестал ворочаться, как снаружи оглушающе грохнуло, будто враз упало несколько могучих стволов. Зверь заворчал, разломал лапами верх и выскочил из берлоги. И тут опять грохнуло невдалеке. Невиданное огненное дерево рванулось из земли, разбрасывая щепки, ветки и комья суглинка. Медведь на миг обезголосел от ужаса, бросился напролом в чащобу прочь от грохота и огненных деревьев. Он не вернулся в берлогу и с того дня шатался по лесу, разъяренный, напуганный, принюхиваясь, не пахнет ли человеком. А человеком пахло, особенно сейчас, весной. У окрайка березняка шатун остановился, на поляну не вышел. За поляной сиреневым облаком прикрывала пологий холм такая же неоперившаяся березовая роща, как и здесь. Рядом в можжевельнике булькал ручеек, точно выливался из узкого бутылочного горлышка. За ручьем протяжно высвистывала синица; гнусаво кричал заяц; на суку, уставившись на медведя круглым глазом, трещала сорока.
Но эти привычные звуки не успокаивали медведя. Оп задрал морду, втянул ноздрями влажный воздух. Сквозняки шелестели обрывками березовой коры, как папиросной бумагой, гуляли по роще, и зверю казалось: человечиной несет отовсюду. В мышцах гудела голодная слабость, он хотел лечь. Но вместо этого засопел и, пошатываясь, поматывая головой из стороны в сторону, как заведенный, начал продираться сквозь кусты, туда, на заячий голос.
Метров через сто человеческий вскрик заставил его подпрыгнуть от неожиданности:
— Хальт!
Выстрелов вдогонку медведь уже не слышал. Виляя куцым задом, он бежал без дороги.
Давно засумеречило, заклубился туман, а медведь — то резвей, то медленней — все бежал: березником, и мшистым болотом, и мимо землянок, через траншеи, сквозь незаделанный проход в проволочном заграждении и снова — мимо окопов и землянок. Будь он разумным существом, он бы знал, что миновал ничейное поле, не подорвавшись на мине и не попав под пулеметную очередь, и, наверное, порадовался бы своей счастливой звезде.
На ближней топи курлыкали журавли. В лесу черно и сыро и тоже гуляли сквозняки. Медведь со вздымающимися боками, роняя себе на грудь тягучую слюну, хрипя, упал на брюхо, лизнул росный стебель мать‑и‑мачехи. В эту секунду его как будто ударили по сердцу:
— Стой! Кто идет?
Из последних сил медведь шарахнулся в темноту.
* * *
Батальон втягивался в лес.
Просека была неширокая — если б повстречалась подобная же колонна, с трудом бы разминулись — и длинная-длинная; в конце просеки, на взгорке, где она, на глаз, суживается так, что ее закраины едва ли не смыкаются, застряло предвечернее солнце. По обочинам вставали деревья: ели и сосны со светло-зелеными отростками-свечами, голые корявые дубки, на березах и осинах кое-где из почек вылупливаются клейкие листики. Деревья целые, не задетые войной.
А перед лесом, где только что прошел батальон, на каждом шагу были ее меты: сожженная, с одними печными трубами, деревенька, тихая мертвой тишиной — ни скрипа колодезного журавля, ни ребячьего гомона, ни мычания коровы, ни песьего бреха; огороды и поля, заросшие прошлогодним бурьяном; там и сям окопы и бомбовые воронки, полные снеговой воды; исклеванный взрывами большак — не проедешь и не пройдешь — сворачивал прямо в придорожную грязь.
В лесу дорога ровная, гладкая. Но грязи тоже хватает; разжиженная талым снегом и дождями почва налипает на подошвы, ноги разъезжаются.
«Когда же привал?» — думает Сергей Пахомцев и рукавом гимнастерки вытирает пот со лба.
Поневоле взопреешь, хоть на дворе и не жарко. Сколько сегодня отмахали! По грязище, по воде. А нагружен, как добрая вьючная лошадь: на плече винтовка, за спиной битком набитый вещевой мешок, сбоку саперная лопатка, противогаз. А скатка, а каска, а подсумки с патронами! Тут заноет поясница, задрожат коленки, пересохнет во рту — язык шершавый.
Читать дальше
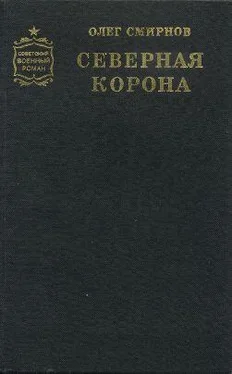
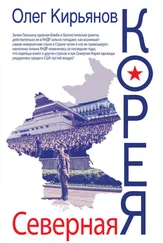






![Влада Ольховская - «Северная корона» [СИ]](/books/408694/vlada-olhovskaya-severnaya-korona-si-thumb.webp)


