Медведь на небе превращается в футболиста с нацеленной для удара ногой (мяч рядом — кусочек облака), и футболист уже не белый, а розовый: всходит солнце, перится лучами.
Нужно бы обернуться и скомандовать: «Отставить разговорчики!», но Сергей не оборачивается, прислушивается.
— Я ему выдал: «Слушай-послушай, за кого меня принимаешь? Я из Средней Азии, но я не ишак!»
Говорит гортанно, с акцентом — это Абдулаханов, узбек. А был узбек — сержант Сабиров.
— Чегой-то, друзья-товарищи, подрубать охота, посасывает под ложечкой.
Голос могучий. Это Варфоломеев, пулеметчик, второй номер, высокий, метр девяносто. А вспоминается — гигант Журавлев.
— Кхм, не пишет? Плюньте на нее. Залезьте на дерево повыше и плюньте. После войны на каждого мужчину будет по три женщины. А вы переживаете, нервничаете.
Покойный, рассудительный — Башулин? Рассудительным был и Рубинчик, Александр Абрамович Рубинчик.
— Для поднятия настроения, братцы, подкину историю. Провалиться, если брешу!.. Бухие спорят: «Чай без сахара хуже!» — «Нет, чай с сахаром лучше!» — «Без сахара хуже!» — «С сахаром лучше!» Спорили, спорили и передрались. Ну, во время драки малость протрезвели, помирились, решили: заместо чая опять водки выпить!
Ласковый, хитрый тенорок. Наверное, ухмыляется, рассказывая. Конечно, Семенов. А на память приходит Пощалыгин.
Затарахтела бричка, с нее сполз, как свалился, почтальон Петрович — тощий, сумка — толстая, набитая газетами и письмами. Сергей протянул ему руку:
— Живы, Петрович?
— Живой, живой.
Расстегивая сумку и обнажая в улыбке бескровные десны, проковылял в строй, на ходу стал раздавать письма. Под конец вручил треугольничек Сергею:
— А это вам, товарищ младший лейтенант. Из Краснодара. От Наталии!
И подмигнул линялым стариковским оком.
— Спасибо, — пробормотал Сергей и в смущенном, счастливом нетерпении развернул письмо: «Мой единственный, мой Сережа!»
Он перечитал эту фразу. Единственный! «Да, и ты у меня одна на всю жизнь. Слышишь меня, Наташа? Что бы ни случилось — одна».
— Прива-ал! Прива-ал!
Сергей остановился, вместе с бойцами перепрыгнул через канаву, выбирая, где бы присесть. Место голое, ни пенька. Чуть подальше — ольха, необлетевшие листья на сломанной ветке — как забуревшая перевязка; за ольхой — кусты рябины с манящими рделыми ягодами. Все направились туда.
— Далеко не заходить, — сказал Сергей. — А то… Он не договорил: землю под ним тряхнуло взрывом,
Когда дым рассеялся, увидели: Сергей лежит на боку, в лице ни кровинки, рука неловко подвернута. Кто остался стоять, кто побежал к дороге, кто торопился к Сергею.
— Взводный подорвался!
— Тут заминировано!
— Убитый насмерть либо как?
— Пока вроде дышит… Фельдшера нужно!
Протопали саперы со щупами и миноискателями, затем санитары с носилками и фельдшер — взволнованный, с трясущимися губами и такой щекастый, что щеки видны были со спины.
Стесняясь своего волнения, фельдшер торопливо разрезал одежду, бинтовал, накладывал жгуты. Глядя на его согнутую спину, на щеки, Караханов угрюмо спросил:
— Не приходит в сознание?
— Пока нет, товарищ капитан.
— Жить-то будет?
— Не ручаюсь. Необходимо срочно эвакуировать…
Уложили на носилки, прикрыли плащ-палаткой, перенесли на большак. И в этот момент ветер забился в ольховых и рябиновых ветвях, как в клетке, вырвался, упал на дорогу. Он взвихривал снег, хлопал краем плащ-палатки на носилках, гладил опаленную взрывом щеку, шевелил спутанную прядь на лбу.
Как перекати-поле, понесло по большаку серую бумажку. Долговязый солдат-автоматчик — одно ухо красное, другое белое — вприпрыжку припустил за ней, догнав, придавил сапогом, поднял, расправил.
— Эге, да это же Пахомцеву, младшему лейтенанту. — Он повертел письмо, раздумывая. — Может, еще сгодится ему?
Наклонился над неподвижным телом и, осторожничая, чтобы не выпачкаться в крови, расстегнул излохмаченный осколками полушубок, сунул письмо в карман гимнастерки, к сердцу.
Я рабочий! (нем.)
Что вы хотите? (нем.)
Понимаете? (нем.)
Хорошо, хорошо (нем.)
Здоров ли? (казахск.)
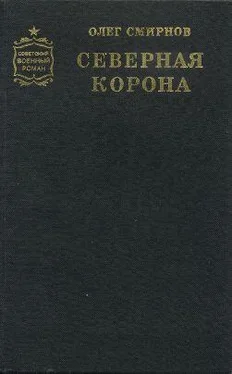
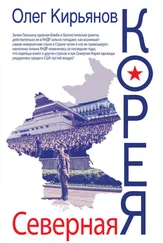






![Влада Ольховская - «Северная корона» [СИ]](/books/408694/vlada-olhovskaya-severnaya-korona-si-thumb.webp)


