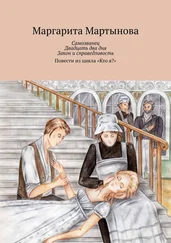— А вы, Штейнер, нам тогда хорошо помогли в разминировании госпиталя. Ведь так?
— Я сделал это не совсем бескорыстно. Теперь, спустя три десятка лет, можно говорить правду: я надеялся искупить этим хоть часть своей вины.
— Но вы же шли на риск. Могли не выкарабкаться.
— Конечно, это было не так просто и стоило большого напряжения.
— Я немного знаком с вашими работами по теории направленных взрывов. Большое дело делаете… — перевел разговор Михайловский, видя, что копание в прошлом волнует Штейнера.
— О! Мне очень приятно это слышать. Никак не предполагал, что гроссмейстер хирургии интересуется такими вещами. — И тут же вернулся к воспоминаниям: — Иногда война, плен, лагерь кажутся мне каким-то видением из кошмарного сна… Трудно себе представить, что все это было в действительности.
— Ну, это естественно, — ответил Михайловский. — Так, всегда бывает, когда приходится делать что-то против своей воли.
— Зачем обелять себя? — возразил Штейнер. — Конечно, мне с самого начала противны были зверства наци. И все же я считал, что в их политике есть рациональное зерно.
Генрих не любил копаться в своих чувствах по отношению к фашизму, но он никогда не простил бы себе, если бы покривил душой перед человеком, спасшим ему жизнь. Конечно, Михайловский мог бы и не заметить фальши, да и для дальнейших отношений, наверное, было бы лучше, скажи Штейнер, что с первых же дней испытывал лишь ненависть к гитлеровскому режиму. Но над ним был высший судья, от которого ничего не скроешь. И, веря в кару и вознаграждение, Генрих мог или молчать, или говорить правду.
— Недавно я перечитал свои письма жене из оккупированного Парижа, — продолжал он. — В них я вполне искренне говорил о том, что наконец французы получили образцовую организацию.
— А вам не приходилось видеть расправы ваших властей над французами, да и над французскими евреями? — спросил Михайловский.
— Да, и это вызывало во мне протест. Но я закрывал глаза. Я убеждал себя в том, что это необходимо, ибо нам предстоит сражение с русскими варварами. Поверьте, я действительно считал население Советского Союза племенем ожесточенных дикарей, способных на все; во время нашего наступления в России я испытывал радость. Русские воины погибают, а я жив, думалось тогда мне…
— И когда же вы перестали так думать? Наверное, во время отступления? — Михайловский состроил саркастическую мину. Разговор начинал его раздражать. Опять против его воли он втянут в военные воспоминания.
— Вы правы, — ответил Штейнер. — Только не думайте, что я испугался. Конечно, и это тоже, тем более, что я считал всех русских дикарями, жаждущими немецкой крови. Но не это главное. Поймите, я говорю совершенно искренне. Мне нечего кривить душой: я ведь не в плену…

— Ну-ну, не обижайтесь, — сменил тон Михайловский. Ему стало стыдно своей вспышки злобы. Тем более что злился он в основном на себя. «В самом деле, — подумал он, — что может вызвать, кроме уважения, человек, откровенно говорящий о своих ошибках. Тем более что ему пришлось потом не сладко». — Продолжайте, — сказал он. — Я вас внимательно слушаю.
— Впервые я почувствовал себя подлецом, когда понял, что вы собираетесь лечить нас, пленных. У меня появился большой материал для сравнения. К тому же рядом со мной был Луггер…
— А кстати, почему вы его не пригласили сегодня? Насколько я понимаю, вы дружите? — спросил Анатолий Яковлевич.
— Да, это мой самый близкий друг. Он вчера уехал отдыхать с семьей. Звонил вам, хотел попрощаться, но не застал вас в гостинице. Просил разрешения зайти к вам в Москве; он собирается туда месяца через три.
— Милости просим, — ответил Михайловский. — Я читал, что есть у вас большая группа молодежи, падкая на военные доблести отцов.
— Увы, да, — ответил Штейнер. — К сожалению, память распространяется в большинстве случаев лишь на одно поколение. И некоторые молодые люди видят прошлое в розовом свете. Для них война — это бряцание наградами. Но мы пока еще живы и не допустим этого.
В глазах Штейнера блеснула решимость, и Михайловский вспомнил, что недавно то же самое ему говорил Луггер. «Побольше бы таких людей», — подумал он.
— Между прочим, мне Самойлов рассказывал, что вы в госпитале не расставались со своим орденом…
— Да, я с ним не расставался и в плену, — ответил Генрих. — Все время носил его в кармане брюк. Для меня он был памятью о погибших моих товарищах. О тех, кого, гнали на передовую, не спрашивая, мечтают ли они воевать во имя третьего рейха.
Читать дальше