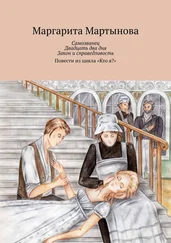— Думаете, я виноват в том, что меня послали на эту войну?
— Не думаю. Вы виноваты в другом: немцы всегда считали себя солью земли. А от этого, согласитесь, один шаг до идей порабощения других народов…
— Да, вы правы, — ответил Луггер, вздохнув. — Я тоже считаю, что мы — соль земли. Национальная гордость — вещь не зазорная. Однако ни я, ни мои друзья никогда не думали, что гордость за свой народ побудит наших соотечественников добровольно превратиться из соли в удобрение… — Ганс вдруг почувствовал, что ему легко говорить. — Я понимаю и разделяю, Анатолий, вашу ненависть к фашизму. Но я не согласен с тем, что он родился из национальной гордости. На такое могут быть способны лишь люди, чувствующие свое полное ничтожество. И если мы и виноваты, то тем, что у нас, в Германии, было много таких людей…
Луггер не успел договорить, за их спиной кто-то рявкнул:
— Воздушная тревога!
Они поспешили в убежище.
— Не обижайтесь на меня, Ганс, — сказал на ходу Михайловский. В чем то правы вы, в чем то я. Но мы еще поговорим с вами на эту тему.
— Что, Луггер, замерзли? — неожиданно откуда-то сбоку появился Верба. — Вашу руку, хирург! — зарокотал он. — Вы, оказывается, отчаянный человек!
— Вас это удивляет или возмущает? — удивленно спросил Луггер.
— Скажите, какой род оружия вы больше всего уважаете?
Луггер не понимал, куда клонит начальник госпиталя, но совершенно искренне ответил:
— Пехоту. Я как-то подсчитал, сколько живет командир пехотного взвода. Получилось в среднем — не более двух-трех месяцев. Это самые незащищенные, самые отважные люди.
— Согласен с вами, — сказал Верба и еще раз пожал Луггеру руку.
Штейнеру хотелось еще раз подумать о предложении Самойлова, да и посоветоваться обо всем этом с Луггером, к которому начал испытывать некоторое доверие. Однако вскоре пришел сам Леонид Данилович. Протянул пачку «Беломора».
— Как давно я не курил! — воскликнул Штейнер, выпуская первый клуб дыма.
— Насколько, я вижу, вы согласны, — решительно сказал Самойлов. — Итак, будьте добры лечь на носилки; наши санитары отнесут вас в подвал, к саперам.
Секунду Штейнер колебался, глядя Самойлову прямо в глаза. Что делать? Оглянувшись, он поймал взгляд Луггера; тот одобрительно подмигнул, и Генрих сделал то, что считал самым смелым поступком в своей жизни. Он переполз на носилки, санитары подняли их и понесли. Штейнер понял, что вступает на новый путь; неизвестно, куда он его приведет. Прежняя жизнь показалась ему вдруг далеким сном. Странно и причудливо меняются вехи на войне: ведь каких-нибудь пять дней назад он плелся с несколькими товарищами по лесу, не чая выбраться из котла, а сейчас он в русском лазарете, мало того — помогает русским. Из одного мира попал в другой. Ранение его не опасно; мысль же о минах под зданием заставляла цепенеть от ужаса. Проклятая война! Если бы не она, учительствовал бы он до сих пор в своем родном городе Галле.
У входа в цокольный этаж Штейнер увидел толпу русских раненых. «Боже! — подумал он. — Сколько же нужно сил, чтобы смотреть на пленного так спокойно, как они. Ведь каждый из них вправе предъявить мне свой счет. Хотя бы за эти мины…»
— Эй, славяне! Куда фрица тащите? — остановил санитара здоровенный черноусый сержант с повязкой на подбородке.
— Куда надо, туда и тащим, — огрызнулся передний носильщик.
— Если на кладбище, я не против. Туда ему и дорога! — И сержант громко выругался.
— Тебя не спросили! — запальчиво отозвался носильщик.
— Это ты мне говоришь? Мне? — с яростью набросился сержант на него. — Я, может быть, из-за этой сволоты инвалидом на всю жизнь стал, тебя это не касается?
— Заткнись! Чего пристал к человеку! — угрожающе предостерег сержанта второй носильщик. — У меня два осколка в груди, я же не воплю. Лежачего у нас, на Руси, не бьют.
— Эх, нет у меня автомата, мигом бы его порешил, — сверкая глазами, сказал сержант.
— Ты бы, я бы! — миролюбиво улыбаясь, говорил второй носильщик. — Будет лаяться. Угостил бы коньячком, вон, я вижу, у тебя полная фляжка.
Сержант распалялся все больше. Отделаться от него было не так легко: он стоял у носильщиков на пути, и они оба, и Штейнер с ужасом смотрели на большой финский нож, висевший у сержанта да поясе.
— А ты что моргаешь? — рявкнул он, наклонившись к Штейнеру. — Душа в пятки ушла? — И, видимо удовлетворив свое самолюбие, снова выпрямился и уже мягче сказал: — Не бойся, не трону. Санитар верно говорит: мы лежачих не бьем, не то, что вы, подлецы.
Читать дальше