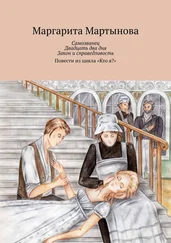— Желаю вам счастья и новых боевых отличий! — криво усмехнувшись, сказал Райфельсбергер.
— Какие у вас ловкие пальцы! Вы музыкант? — спросил Самойлов.
— Какое это теперь имеет значение! — запальчиво отрезал Курт.
Теперь он напоминал Самойлову птицу с перебитым крылом.
— Я не хотел вас обидеть, — немного смущенно отозвался Леонид Данилович. — Я сам немного в часы досуга играю на гитаре… — «Черт меня дернул напомнить про пальцы. Тоже мне, умник».
Курт изумленно посмотрел на него, как бы спрашивая, не шутит ли комиссар. Наступило молчание. Все трое лишь переглядывались, и каждый думал о своем. Самойлов понимал, что ему нужна немедленно уйти; кроме Луггера и Райфельсбергера в палате было много тяжелораненых немцев, им нужен покой, а присутствие комиссара не может их не волновать. Да и на Ганса Леониду Даниловичу не хотелось оказывать никакого давления. «Лиха беда — начало, — думал он, — пускай теперь дозревает сам. Быть может, что-то поймет и Курт; он, конечно, исправный гитлеровец, и все же…» И все же Самойлов был рад, когда при упоминании о музыке в глазах Райфельсбергера появилось какое-то человеческое чувство. Глубоко-глубоко запрятанное внутри, однако…
Поднявшись со стула, Самойлов еще раз взглянул на Райфельсбергера: лицо его было сурово, губы сжаты, но в глубоко посаженных глазах вновь промелькнуло что-то жалкое. Пытаясь как-то рассеять создавшуюся атмосферу, Леонид Данилович решил пошутить:
— Люди с момента своего возникновения слишком мало смеялись, и в этом их первородный грех, так…
— Так сказал Заратустра, — подхватил Луггер. — Точнее, написал Ницше, ссылаясь на Заратустру. Прошу прощения, но я никак не думал, что вы, комиссар, читали это.
— Весьма польщен! — торжественно ответил Самойлов.
— А Канта вы знаете?
— Кое-что читал для самообразования. Положение обязывает…
— О-о-о! — сразу оценил Луггер. — Это замечательно. С вами интересно спорить.
Самойлов скромничал. Женатый на дочери немца из Республики Поволжья, он, в совершенстве овладев немецким языком, под ее влиянием хорошо изучал и немецких писателей-классиков, и немецкую философию. Однако если эти знания помогали самому Леониду Даниловичу, нельзя сказать того же о его продвижении по службе. Начитавшись Прудона, Канта, Гегеля, Ницше, Фейербаха и Энгельса, он обрел склонность к длинным, беседам о сути явлений. Его начальникам это не нравилось: рассудительность Самойлова они почитали за вольнодумство и держали его на малых должностях.
…В тысяча девятьсот тридцать седьмом году Курту исполнилось пятнадцать лет; он уже мог управлять лошадьми, идя за плугом. Работа эта нелегкая: ведя плуг, надо изо всех сил нажимать на рукоятки. Мысли о том, что он будет, как отец, всю жизнь рыться в земле, летом жать, осенью копать картофель, омрачали его настроение. Война началась еще до того, как он что-нибудь решил.
— В четырнадцатом году я дослужился до фельдфебеля, — сиплым голосом рассказывал сосед по ферме, дядюшка Иоганн. — Есть что вспомнить: пол-легкого газом стравили. Конечно, не так страшен черт, как его малюют. Но так говорят, пока не испытают все на своей шкуре. А в общем-то, если хочешь, попробуй: авось до оберста дослужишься. В конце концов, не все ли равно, где подыхать? На собственной перине или в окопе, призывая маму на помощь!
— Ты, дядюшка Иоганн, сам не понимаешь, что говоришь. Нам, немцам, как воздух нужно жизненное пространство, — решительно отвечал Курт.
— Нам? Кому — нам? Тебе? Мне? Баронессе Бауэрман?
— Всем истинным немцам!
«Остолоп! — думал дядюшка Иоганн. — А может быть, в этом есть какая-то чудовищная закономерность, может быть, дети всегда будут повторять ошибки отцов?» А вслух посоветовал:
— Советую тебе остерегаться шрапнели: она здорово кусается!
— Вы, дядюшка Иоганн, все очень усложняете. Уверен, что эта война будет не такой, как прошлая. Мы раздолбаем их в пух и прах!
— Дай-то бог, мальчик мой, — ответил тот, промычав что-то себе под нос.
В душе Райфельсбергера шла жестокая борьба. Для его отца пределом желаний было прикупить небольшой участок пойменной земли. Курт любил, когда отец мечтал вслух, хотя, повзрослев, понял, что это лишь грезы. С приходом нацистов к власти он сразу поверил в Гитлера; считал его мессией, волшебником, приносящим неимущим все богатства мира. Кровь ударила в голову Курту, когда он сам почувствовал величину этих богатств. Вступив с войсками на территорию Украины, он увидел такое количество плодородных земель, о каком его отец и думать не смел. Леса, реки, озера, пруды. И главное, что все это могло стать его, Курта, собственностью. Это ли не счастье? И вот все рухнуло. Курт с застрявшей в плече миной никак не напоминал бравую «белокурую бестию». Внезапно его охватила злость. «Хорош из меня благодетель арийской расы, — в который раз думал он, ощупывая корпус мины. — Когда же Иваны ее вытащат? Это же низость — так бесчеловечно относиться к раненому. Я не эсэсовец. Где их сострадание, человеколюбие, о котором болтал комиссар? Или око за око, зуб за зуб? Не потому ли эти хитрецы, Штейнер и Луггер, так быстро перековались?..»
Читать дальше