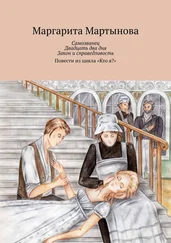— Не испугались?
— Нынче ничему не приходится пугаться.
— Как вы допустили, что штабс-фельдфебель Курт Райфельсбергер валялся в сарае, всеми забытый?
Луггер взглянул на Вербу с удивлением. Странный вопрос. Часто ли приходится в жизни вообще, а уж тем более на войне, делать то, что хочется, о чем мечтаешь?
— Я ничего не знал о Райфельсбергере, — ответил он, — его не привозили в наш лазарет, можете его сами об этом спросить. Мало ли подлецов? Да и меня здесь тоже почти что кинули, у меня касательное осколочное ранение стопы.
«Готовность отразить удар вовсе не обязывает к грубому ответу, — подумал он, — можно и не обидно высмеять; можно и защищаться молча». А вслух добавил:
— Не буду врать: я член НСДП. Иначе я бы давно вылетел из клиники. Я хотел работать; это не такой уж большой грех. Иногда у человека не остается выбора. У вас есть немало раненых, которым я могу быть полезен. Я прошу вашего разрешения на операцию одного из них.
— Вы имеете в виду мальчика-партизана? — спросил Верба.
— Вы мне не доверяете? Сомневаетесь в моем умении? К сожалению, я лишен возможности показать мои научные работы. Впрочем, можете проверить: в тридцать первом году меня дважды цитировали ваши ученые.
«Если допустить Луггера к операциям, что скажут наши раненые? Как отнесется к этому мое начальство? Ладно, если все кончится хорошо. А если неудачный исход? В ответе буду я один. С Луггера что возьмешь?»
Сердце и рассудок спорили между собой; Верба понимал, что самое безопасное — отказать Луггеру; и все же он чувствовал симпатию к этому немцу, да и хирург-окулист был для госпиталя бесценным приобретением. Он шагнул к окну: непрерывная цепочка автомобилей тянулась к госпиталю, среди них виднелся санный обоз с кибитками, из труб которых поднимался дымок. На бортах грубо намалеваны красные кресты.
— Так что вы хотите? — спросил он наконец Луггера, будто тот только что вошел в его кабинет.
— Я был бы признателен, если бы мне разрешили оперировать мальчика Андриана, — ответил Ганс. — Это было бы для меня и экзаменом, и большим счастьем.
— В вашем желании есть много хорошего. Похвальна и готовность, с которой вы беретесь за его выполнение. Я сообщу вам… — он чуть было не сказал «коллега», но, вовремя спохватившись, добавил: — Окончательное решение я вам сообщу…
Луггер вежливо кивнул и заковылял обратно в палату.
— …Ты меня не понимаешь или не хочешь понять, — втолковывал Верба Михайловскому. — Не я его заставил делать операцию, а он сам, чуть ли не со слезами на глазах, умолял меня о разрешении.
— А где гарантия, что нас с тобой не высекут за это благородное начинание? Хотя бы за то, что мы не знаем степени квалификации этого немца. Сам знаешь: в глазных операциях я полный профан.
— Вот уж не думал, что ты такой осторожный.
— Жена Цезаря должна быть выше подозрений, — отшутился Михайловский.
— Ты предлагаешь ждать у моря погоды. А известно тебе, что аэродром разбит: раньше чем через двое-трое суток санитарная авиация не задействует.
— Пусть комиссар нас рассудит! — ответил Анатолий, увидев приближающегося к ним Самойлова. — Как ты думаешь, Леонид, можно доверить Луггеру операцию?
— Могу сказать лишь одно: Луггер тянется к нам, и мне кажется, что отталкивать его по меньшей мере глупо, — ответил тот. — Не все немцы слеплены из одного теста, и, думаю, мы вполне можем рассчитывать на Луггера.
— Так ведь… — начал было Михайловский, но Верба оборвал его:
— Хватит! Что ты заладил одно и то же! Я верю в добрые побуждения Луггера. А тебе не позволю стоять в стороне, когда он будет оперировать мальчика.
Михайловский вынужден был повиноваться.
Сообщение Леонида Даниловича о приезде в госпиталь московских артистов Верба слушал вполуха. Разговор о концерте казался ему сегодня не только нелепым, но и бестактным. Да, он любил Гаркави, еще со студенческих лет он восхищался его умением завладевать вниманием публики, вспоминал, с каким блеском тот погасил начавшуюся панику во время бомбежки госпиталя летом сорок первого года. Но сейчас…
Не скрывая раздражения, Нил Федорович сказал Самойлову, что после всего пережитого у него нет никакого желания улыбаться, хлопать в ладоши, и вдруг начал заикаться:
— На-на-дер-дер-усь сей-сей-час, кк-ак саа-пожж-ник и лля-гуу на три-трис-та мин-ннут сс-на! Или нн-нет? Ты… ты, что нне видд-дишь, чч-то зассы-паю на ххо-ду!
— Погоди! — пробормотал Самойлов. — Вид у тебя действительно отвратительный, но что же делать, Нил? Им восвояси отчалить? Отказаться? Некрасиво получится. Досадно!
Читать дальше