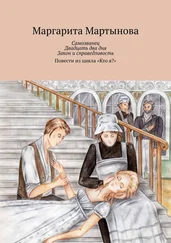— Ладно! Так и быть, отложим лукулловский пир до Первого мая, — смилостивился Михайловский, и по его лицу расползлась широкая улыбка. — Долго теперь ждать не придется. — Он дружески подтолкнул Вербу в спину. — Пойду еще вздремну чуть-чуть. А ты? — спросил он Самойлова.
— Минут через сорок! Правильно я говорю, бабоньки?
— Пока! — протянул Михайловский.
— Анатолий, ты иди, — сказал Верба. — А я хочу заскочить на двор, поглядеть, много ли осталось неразгруженных машин с ранеными. Прямо не верится, что за один день мы могли расчистить такую пробку. Ты знаешь, сколько мы приняли за эти чертовы двенадцать часов? — И, не дожидаясь ответа, воскликнул: — Одну тысячу семьсот девяносто три человека, из них отправили пешим порядком ходячих девятьсот восемьдесят шесть…
А Михайловскому вспомнилась почти забытая мирная, теплая жизнь: мир и мечты. «Интересно, удастся ли мне снова увидеть все это? — думал он. — Должен дожить… Обязан…»
…Боль в голове утихала, сменяясь легким покалыванием.
— Пить, — попросил он.
Чья-то мужская рука осторожно подняла голову Андрейки и поднесла кружку ко рту.
— Тринкен киндер! Тринкен! — услышал он басовитый голос.
Его охватил испуг: «Немцы!»
— Не хочу, — ответил он сквозь зубы. Он знал: надо молчать и ждать. Он умеет ждать. Он ни за что не скажет, что он связной партизанского отряда. И начал повторять про себя: «Немцы… немцы… немцы… как я попал к ним…» Он понимал, что надо встать с кровати и уйти, но не было сил это сделать.
— А ну, Генрих, погоди, дай-ка я попытаюсь, — сказал Луггер. — Он тебя испугался. А я немного знаю русский язык. Тут нужно терпение. Надо понять его переживания. У мальчика, вероятно, есть основания нам не доверять. Бедняжка! Жизнь у него была несладкой…
— Какая там гордость у этого суслика, — грубо прервал его Райфельсбергер. — Сдрейфил, и вся недолга. Услышал вокруг себя немецкую речь и в штаны напрудил. Но и дерутся тоже… Я сам видел, как такой вот щенок жарил из чердака по нашей колонне из ручного пулемета, пока его и еще двух таких же не гробанули наши танкисты. У них в карманах нашли красные галстуки и клятвенное обещание пионера, вроде присяги. У меня на таких сопляков хороший нюх! А вы развесили уши!
— Заткнитесь, Курт! — возмутился Штейнер.
— Вы думаете, обер-лейтенант Штейнер, что положение раненого военнопленного освобождает от обязанности быть немцем? — спросил тот менторским тоном. — Кстати, я давно хотел сказать: мне не нравится, когда вы с Луггером зовете меня Куртом. В отличие от вас, я был и остаюсь верным солдатом фюрера. Война продолжается, и я, фельдфебель Райфельсбергер, еще покажу, на что я способен!
— Да что вы, спятили? — крикнул Штейнер. — Катитесь вы отсюда к чертовой матери, в ваш сарай, откуда вас принесли…
— Вы даже в детях видите врагов, — подхватил Луггер. — Откуда у вас такая ненависть? Если бы это от вас зависело, я убежден, вы всех русских истребили бы от мала до велика.
«Какого черта я с ними спорю, — думал Курт. — Счастливы, довольны, что они в плену. К черту их всех вместе». Но в следующее мгновение он почувствовал боль и представил, что его ожидает.
— Ладно, — снисходительно ответил он Луггеру, — по всему видно, что вас не бомбили и не стреляли вам в спину партизаны-бандиты. Русские солдаты — это вам не французики.
— Чушь вы несете, — ответил Штейнер. — Могу только удивляться русским, что они с нами нянчатся, вместо того чтобы отправить нас на тот свет.
— Учту при случае, ваши слова. Теперь я начинаю понимать, и ваше похвальное поведение, и ваше старание, и вообще то, что вы оба оказались здесь, — многозначительно изрек Райфельсбергер.
Пока Штейнер продолжал спор, Луггер, ковыляя, подошел к Андрейке.
— Мне спрашиват имя малчика? — голос его звучал мягко и дружески.
Андрейка вздрогнул. Теперь он окончательно убедился, что попал в лапы фашистов. Но каким образом? Память лихорадочно заработала: он вспомнил, как получил задание, по дороге попал под бомбежку…
— Оставьте мальчугана в покое, — сказал Штейнер. — Он и без того слаб и напуган.
— Вероятно, вы правы. Мы всегда обходились с русскими скверно, — ответил Луггер, — но сейчас я поступаю лишь так, как подсказывает мне совесть. — Он сел на кровать Андрейки, взял его за руку и начал считать пульс. Я поступаю лишь так, как обязан поступить. Запугивать меня не надо. Я никого не боюсь: если кто-то войдет сюда, я скажу, что я врач и готов помочь мальчику, до мобилизации я много лет работал у знаменитого…
Читать дальше