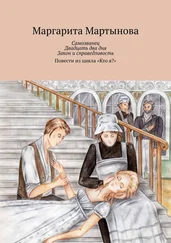— Сколько угодно!
— Где! Я что-то не видел, мы с Михайловским обошли все вокруг.
— Все, да не все! — торжествующе сказал Верба. — У нас, под собственным носом. Пошли покажу. Видишь? Это что, по-твоему?
— Кладбище немецкое.
— Вот именно!
— Что из того?
— Как что? Не догадался? Идем к ограде.
Недалеко от госпиталя, на возвышенности, запорошенные снегом, белели сотни березовых крестов. Некоторые могилы были наспех засыпаны землей.
— Кумекаешь теперь? — гордо спросил Нил Федорович. — Вот тебе и выход из положения. Хороши дровишки? Поглядим, когда захоронены. Э-э! Да тут, оказывается, есть с декабря сорок первого, когда они драпали после разгрома под Москвой. Сухие дрова! Отлично!
— Кресты на дрова? Ты что?
— А почему бы и нет? Мне абсолютно наплевать на всякие предрассудки. Главное — дать немедленно тепло. Теперь я спокоен. Или ты против? Оглянись. Вокруг ни лесинки. До дальнего леса ни пройти, ни проехать. Нам просто повезло. Больше тебе скажу: я почти уверен, что кладбище не заминировано. Впрочем, надо хорошенько проверить, чтобы невзначай санитары наши не взлетели на воздух. Может, у тебя на этот счет другие соображения?
— Не беспокойся, старина, — ответил Самойлов, — Я смотрю на это дело почти так же, как и ты. Единственно, что бы я сделал, это все-таки переписал бы имена тех, кто здесь захоронен. Это имеет и моральное значение для наших людей. Русские всегда чтили умерших.
— Любопытно, куда ты мечтаешь отправить эти списки? В третий рейх? Совинформбюро?
— Туда, куда мы отправляем списки умерших в нашем госпитале. А там разберутся.
— Ну, действуй. Тебе виднее! Надеюсь, ты не поручишь такое дело нашим?
— Конечно, нет! Я велю это сделать кому-нибудь из пленных.
— Смотри, чтобы наши его не укокошили, когда начнут ломать кресты. Э-э! Кто-то уже сообразил!
Навстречу им бежали с топорами и пилами человек десять санитаров.
Осмотрев Райфельсбергера, Михайловский объявил:
— Если эта игрушка взорвется, многим из нас капут.
Но, слушая шумное дыхание Курта, он вдруг понял, что, если им заняться как следует, можно не только сохранить ему жизнь, но и руку, неполноценную, но живую, теплую и способную двигаться. Отнять целиком ее всю, вылущить из сустава — семь — десять минут, и вся недолга; мудрено оставить ее. С таким случаем ему еще не приходилось сталкиваться, да и не только ему, — неразорвавшаяся мина в плечевом суставе. Удаление ее — опасный эксперимент и для раненого, и для хирурга.
Рядом дожидались осмотра русские раненые, а Михайловский, никого не замечая, все топтался вокруг Райфельсбергера, сопоставляя, анализируя, осматривая под экраном флюороскопа степень разрушения костей и сустава.
— Руку можно сохранить, — наконец твердо сказал он.
— Ты вполне уверен? — спросил Верба.
— Я не пророк, а хирург. Кажется, я не так часто ошибался, если не считать глупостей, которые творил в сорок первом году, не зная, что такое огнестрельные ранения.
Верба осторожно дотронулся до ударника мины:
— Ну так давай, не то мы его упустим. Загнется быстро.
Михайловский смотрел на лихорадочно блестящие глаза Курта: в них можно было прочесть только злость.
— Верно, — согласился Михайловский.
— Значит, договорились. Я не сомневался, что такой ас, как ты, возьмется хотя бы ради научного интереса. Как-никак, уникальная операция. — Нил Федорович оживился. — На втором этаже лежит корреспондент армейской газеты. Я шепну ему пару слов. Ты пока осматривай других, а я тем временем распоряжусь подготовить под операционную баню, она далековато от госпиталя. Там работы на час-полтора. Береженого бог бережет. Мало ли что? Дело серьезное. Обстановочку создадим, будь спокоен, не хуже, чем в столичной клинике.
— Извини, Нил Федорович… Но я твердо решил: оперировать этого и всяких других немцев не буду. Ты же знаешь…
— Что за дикость!
— Я не люблю играть словами. И раньше и впредь…
— Но это же особый случай. Неужели тебе, мастеру, не интересно. Может быть…
— Оставим этот разговор. Ты знаешь, как я отношусь к немцам. Не подумай, что я испугался. Подай мне пять наших раненых с такими же штуками, ни секунды бы не медлил. Так что поручи другим, Сенькову, Ильяшевой, они не хуже меня справятся.
Курт не понимал, о чем говорят Верба и Михайловский, но чувствовал доброту одного и ненависть другого. Нил Федорович нахмурился:
— Чем он виноват? В том, как он переносит страдание в этой безысходной ситуации, есть достоинство. Во всяком случае, он не унижается. В общем…
Читать дальше