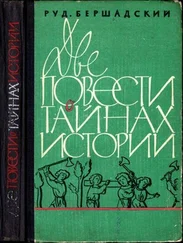— В штаб полка. Капитан Ивлев приказал справиться, когда пополнения ждать.
— А без пополнения вы уже не вояки?
— Трудно, товарищ майор. — Лева доверительно наклонился ко мне совсем вплотную: — Мы уже прикидывали и так и иначе — без пополнения ничего не выйдет.
— Кто это «мы», Лева? Вы командиром роты за это время стали?
— Нет, я по-прежнему связной, — смущенно ответил он. — Только теперь — у капитана Ивлева. — И, стремясь поскорее замять неприятный разговор, он с такой живостью вытащил из кармана книжечку разлетающейся папиросной бумаги, как будто вспомнил о чем-то совершенно неотложном. — Вы еще не пробовали, товарищ майор, такую? Трофейная!
Мы закурили. Бумага оказалась неплохой.
— А вам, Лева, я вижу, век связным оставаться…
Он задумчиво послюнил расклеившуюся цигарку.
— Выходит, да… Но Ивлев — человек хороший, я не в обиде. Бывает, конечно, загрустит…
— Что, жена его так и бросила?
— Нет, она уже пишет ему, чтобы он простил ее, но он не отвечает. Сколько я ни говорю ему: надо ответить — не пишет.
Обстрел прекратился. Я поднялся. Встал с корточек и Лева. Прощаясь, он спросил меня:
— А как у вас. учения в штабе армии прошли? Все в порядке?
— А вы и про меня все знаете?..
До Ивлева я не дошел. Минут через пять после того, как мы расстались с Семиверхом, я внезапно услышал стремительно приближающийся треск сухих — веток на вершинах сосен. Успел лишь подумать (это помню ясно): «Снаряд!.. Он ляжет рядом!..» — и бросился на землю.
А когда очнулся, то почувствовал, что лежу на чем-то мягком, на чем не лежал давным-давно. Захотел посмотреть: на чем? Однако не смог открыть глаза. И ничего не слышу.
Стало страшно. Неужели я мертв?
Лихорадочно двинул рукой. Рука двигалась. Поспешно пощупал, на чем лежу.
Догадался: простыня.
Тогда быстро выпростал руки — мне надо было двигать ими беспрестанно!
Пронзила резкая боль. Я пренебрег ею — скорей бы добраться до глаз. Что с ними?
Я ощупывал свое лицо. Оно было опухшим и незнакомо толстым. И сплошь забинтовано. Нетерпеливо расковырял пальцем бинты, добираясь до век. Веки тоже были опухшие, и в них торчали мелкие осколки, не причинявшие, однако, серьезной боли.
Еще раз попробовал приоткрыть глаза — и не смог. Тогда яростно растянул веки пальцами.
Сердце сжало так, что я чуть не лишился сознания. Но все-таки вместо колебавшейся перед закрытыми глазами глубочайшей черноты с мигающими звездчатыми блестками показалось, что увидел смутный розовый ровный свет.
Чья-то мягкая рука коснулась моей руки и стала легко гладить по кисти. Рука была узкая, женская. И голос, кажется, женский. Впрочем, слов я не разобрал.
— Громче! — разозлился я и тотчас сжал зубы: осколки жалили все лицо, они сидели и в губах.
Женщина повысила голос. Она, наверно, кричала. Я напряг слух, как мог. Я даже выгнулся от напряжения. Но уловил только одно слово (да и то — не показалось ли мне?): «майор». Что — майор?
Неужели я и слеп и глух? И рука куда-то неожиданно исчезла. Почему? Куда?
Захотелось выть и биться головой. Зачем я жив, такой?!
Однако еще острее сразу охватило желание: нет, я что-то слышу — так пусть же немедленно, сейчас же услышу свой голос, хоть единый звук!
И я закричал, чтобы услышать себя, и кричал до тех пор, пока не ощутил снова на плече появившуюся откуда-то женскую руку. Тогда я перестал кричать и спросил:
— Это — навсегда? Навсегда? А?
Мою щеку щекотнули пушистые волосы, в ухе вдруг стало горячо от чьего-то прерывистого дыхания — мне кричали прямо в ушную раковину:
— У вас контузия!.. Это пройдет!..
И я, кажется, услышал! Это было так изумительно, что я не поверил. И по-моему, еще раз закричал изо всех сил:
— Повторите!
И снова услышал тот же голос:
— Пройдет! По-пра-ви-тесь!
Тело в тот же момент ослабло, я стал мокрым от испарины. А сестра все гладила руку, и я почувствовал, как это приятно. Зачем я только что кричал на нее?
Нашарил ее пальцы и тихонько провел по ним ладонью. А она продолжала сидеть возле меня, все понимая и рассказывая мне своими чудесными руками, что все пройдет, я буду снова здоров. И я незаметно уснул.
Снилось топленое молоко в глазированной крынке. Желтовато-красная сморщенная плотная корка, а под нею в палец толщиной сливки, холодные, как повязка на лбу, и такого розового цвета, какой можешь представить себе, только когда лежишь ослепший.
Когда проснулся, попросил молока. Мне принесли такое, которое только что видел во сне. Я знал, что оно такое, хотя и не видел его.
Читать дальше
![Рудольф Бершадский Смерть считать недействительной [Сборник] обложка книги](/books/30160/rudolf-bershadskij-smert-schitat-nedejstvitelnoj-cover.webp)


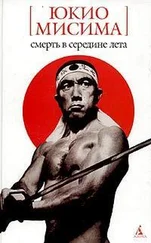
![Николай Леонов - Смерть на взлетной полосе [сборник]](/books/38365/nikolaj-leonov-smert-na-vzletnoj-polose-sbornik-thumb.webp)