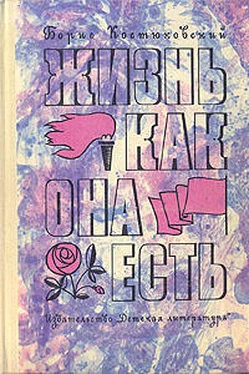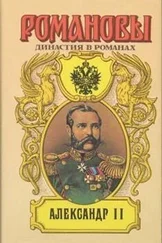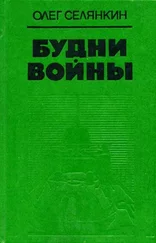Было объявлено, что все, кому минуло 16 лет (а мне еще 23 декабря исполнилось 16), обязаны работать на торфе или ехать в Германию.
Некоторые откупались, других просто прятали родственники, у меня таких возможностей не было.
Не оставалось ничего другого, как пойти на торф.
Марат жил со мной, но голод заставлял его бегать и к бабе Мариле, и к теткам.
С конца апреля и до конца августа я вставала в четыре часа утра, к пяти уже была на болоте — и дотемна. Часов там никто не считал. Во всяком случае, наши надсмотрщики. Зато мы время хорошо чувствовали своим горбом.
Летом у нас очень поздно темнеет, так что день длился по 15–16 часов. С самого раннего утра до позднего вечера по деревянному настилу я откатывала груженные мокрыми кирпичами торфа вагончики. Ни минуты отдыха. Парень где-то на дне карьера, прямо в воде, режет торф и выбрасывает мне наверх. Я должна схватить каждую кирпичину, уложить на вагонетку, поворачиваться, снова хватать — укладывать, хватать — укладывать. Когда вагонетка полна, я везу ее к месту сушки, метров за восемьсот, а то и за километр.
Там я снимаю и аккуратно укладываю кирпичины «в клетку» и возвращаюсь к карьеру. За это время мой напарник уже успел нарезать мне в запас столько торфа, что погрузка идет без минуты промедления: хватаю и укладываю, хватаю и укладываю. А взад-вперед ходят с плетками надзиратели — попробуй промедлить или не так укладывать кирпичи! Один раз у моей соседки обрушилась клетка. На бедную девушку набросились три полицая и били ее так яростно, так безжалостно, что даже немец, который был здесь за главного, остановил их. Я дрожала при одной мысли, что и меня может постигнуть такая участь. А сил для этой каторжной работы было очень мало. Да и откуда им взяться? Из дому на обед мне нечего было взять, я постоянно голодала. Марат иногда приносил мне от бабы Марили и теток то кусочек хлеба, то картофелину. Я тут же все это съедала.
Когда начинался перерыв на обед (единственный час за весь длинный день), я испытывала такие муки, что уходила подальше к реке, чтобы не видеть, как едят другие.
Я садилась на берегу реки, смотрела в воду, меня клонило ко сну. Иногда засыпала, этим, наверно, и спасалась. Как-то раз моя одноклассница из деревни Кукшевичи, Иринка Лобач, разбудила меня и опросила:
— Ты почему не обедаешь?
— А у меня ничего нет.
— Дура я, дура, — ругала себя Иринка, — как это я заметила, что ты все время уходишь одна. Вот у меня остался кусочек мяса и хлеб. Возьми съешь.
С того дня Иринка стала подкармливать меня, и я вечно ей благодарна за ее доброту и отзывчивость. В такое время поделиться последним куском хлеба мог только настоящий ДРУГ.
И сейчас, спустя почти тридцать лет, я говорю тебе, милая моя школьная подружка Иринка Лобач, с которой я разделила четыре месяца самого каторжного, черного рабства на торфе: «Спасибо тебе за все. Этих дней не забуду никогда. И если я смогла выдержать, не упасть, не погибнуть, то только благодаря тебе».
И еще в те дни появилась у меня «палочка-выручалочка»- тоже одноклассница, Нина. Вечером я спешила в свою деревню и часто ужинала у нее в семье «чем бог послал», как говорила ее мать. У них, по крайней мере, были молоко и картофель.
На торфе нам обещали платить за работу, но получили мы один раз по пять килограммов гречневой муки, по бутылке постного масла да еще пол-литра патоки. Это все — за четыре месяца!
В августе баба Мариля, которая считала своим долгом не оставлять меня своими заботами, стала настойчиво сватать меня за Костю Кокальского, пожалуй, самого последнего дурака и прохвоста в Станькове. Зато был он красивый и не считался с тем, что у меня «такая мать». (Этого «женишка» потом за предательство расстреляли партизаны нашего отряда.)
Атаковала меня не только баба Мариля, но и тетки. Выйти замуж — значит не поехать в Германию. Семейных в то время еще не угоняли.
Что делать? Ходить на торф? В этом случае тоже не отправят в Германию, и замуж можно не выходить.
Я все еще ждала маму, по ночам сидела на пороге своего «замка», и мне мерещилось несбыточное. На рассвете, не выспавшись, надо снова идти на болото… А ходить туда уже не могу, нет сил. А что зимой делать, когда торф добывать нельзя? Один только я видела выход: к партизанам! А их и след простыл. Ни Дядиченко, ни Привалов больше не появлялись.
Я забыла сказать, что еще в апреле или мае гитлеровские каратели блокировали станьковский лес с целью уничтожить партизанский отряд. Думаю, что это был отряд, в который после ареста мамы и Домарева ушли Дядиченко и Привалов.
Читать дальше