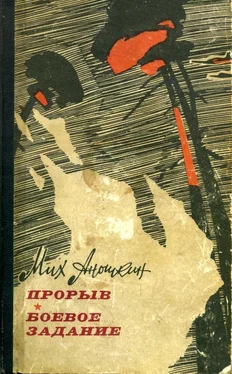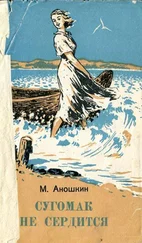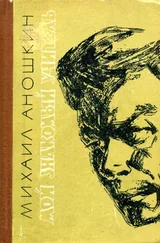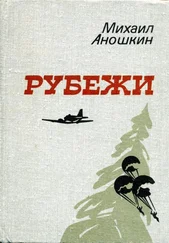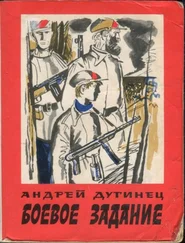Тюрин понемногу согрелся, перестал вздрагивать, засопел — одолевала дремота. Игонин спросил:
— Спишь, Гришуха?
— Не спится.
— Меня чуть не ухлопал фриц. Гранату, гад, бросил. Она подкатилась под меня. Думаю — все, прощай мама родная и белый свет. Не взорвалась. Пове-езло! Вот, брат, как бывает. Так ты имей в виду, коль грохнет другой раз меня, напиши моей матери, в Вольске живет.
— Скучно ты говоришь, Петро, — возразил Григорий, хотя рассказ про неразорвавшуюся гранату взволновал его.
— Такой уж я скучный. Я ведь у нее один, понял? Вообще, дураком рос. Учился плохо, неуды по всем тетрадкам ползали, как тараканы. В седьмом два года сидел. Мать — учительница. Ей из-за меня попадало. Сама учительница, а сын турок турком растет. Я из восьмого удрал. В Астрахань подался, на рыбные промыслы. Потом в Куйбышев, на пароход. Всю Волгу облазил от Каспия до Рыбинска.
Оказывается, и Тюрин не спал — слушал. Вздохнул:
— Я до армии ни шагу из деревни. Один раз в райцентре был. А ты повидал!
— Ого, повидал — на две жизни вперед. Всякой всячины навидался, и бит был до полусмерти, и с бабой целовался. А перед призывом сманил один морячок на Черное море. Там и кантовался. Грузчиком: майна — вира! Матросом на катере. Рыбаком на шаланде. Будь здоров! О матери ни разу не вспомнил, писем не писал. Дурак дураком был.
— А я в армию пришел — каждую неделю писал. Тятеньке. Дуне. Как же ты терпел?
— Я не то еще терпел. Один урка глотку финкой хотел перерезать — я терпел. Думал, я струшу, потом припомнил ему — будь здоров! Вольная жизнь, она, брат, закрутит, и все забудешь. В армии тоска заела. Тогда и маму вспомнил. Написал. Ответила. Простила. Только я сам себя не простил, не так жизнь начал.
— Трудно тебе, — вздохнул Тюрин. — А я и не знал.
— Ты еще младенец, — сказал Игонин.
— Расскажи еще что-нибудь.
— Нет, брат, хватит, в другой раз. Не хочу больше будоражить себя, тяжело.
— Лучше соснем, друзья, — предложил Андреев. — Завтра, может, еще труднее будет.
— Так ты, Гришуха, не забудь мою просьбу. Ладно?
Григорий нашел руку Петра и крепко ее пожал. Случись что с Петром, просьбу он, конечно, выполнит, но лучше бы ничего не случилось. И сам Андреев не заговорен от шальной пули или от острого осколка. Грохнет однажды бомба рядом — и костей не соберешь. А ведь жизнь только начинается. Это же пустяки — девятнадцать с небольшим лет! Не любил еще по-настоящему, ничего доброго сделать не успел. И худого тоже. Собирался в армию, мечтал: прослужу два года, поеду в деревню и стану учительствовать. Хорошо! И Таня с ним, если, конечно, захочет. Не успели как следует друг друга узнать, но ничего. Главное — она ему нравится, он ей, кажется, тоже. А деревню можно выбрать такую, возле которой было бы озеро. В выходной, в каникулы — на рыбалку. А таких деревень на Южном Урале сколько хочешь — любую выбирай. Приедут они с Таней в деревню, им дом отведут. Скажут: живите счастливо, дорогие товарищи, учите наших детей, не забудьте заиметь и своих. Да...
Ворочается Григорий, не может одолеть прекрасных, как сказка, раздумий, но постепенно усталость берет свое. И видит он во сне не ту милую деревушку с озером, не желанную Таню, а чужое, незнакомое лицо неимоверных размеров. Оно искажено ужасом: глаза что блюдца, рот перекошен, а ко лбу прилипла мокрая прядь волос. Человек, которого Григорий никогда не видел, что-то кричал. Беззвучный крик и искаженное ужасом лицо. От жути перехватило горло, не хватило воздуха, Григорий очнулся. Обалдело уставился впереди себя. Перед глазами виднелось спокойное лицо спящего Петра Игонина. Прислушался. Рядом журчала речушка, где-то недалеко стонала выпь. В деревне брехала собака.
На биваке тишина, только слышится храп. Усталые бойцы спят. Сладко посапывает Игонин и по-детски улыбается во сне: что ему, интересно, такое хорошее приснилось? Возможно, мать, о которой он потихоньку, украдкой тоскует? Как всегда, во сне мечется Тюрин.
Григорий снова задремал.
Утром выдали по банке мясной тушенки на троих и по буханке черствого хлеба. Игонин по-хозяйски забрал пай на себя и на своих друзей, перочинным ножом вскрыл консервы, нарезал хлеб и широким жестом хлебосольного хозяина пригласил:
— Прошу к столу! Шампанское пока не подвезли, но ждать не будем. Ваше мнение, кацо? — обратился он к Тюрину.
— Не будем, — улыбнулся Семен.
Расселись вокруг плащ-палатки, расстеленной на траве скатертью-самобранкой, и молча принялись завтракать.
Читать дальше