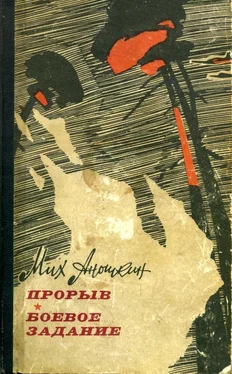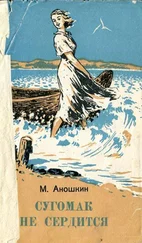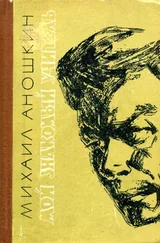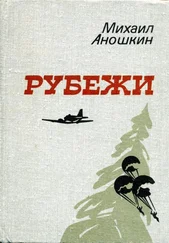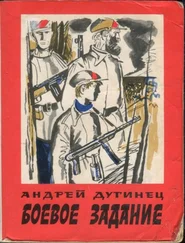— Ты?
Мошков отпрянул назад, пытаясь вырваться. Но партизан был выше ростом и в плечах шире. Мошкова держал железно, тот дергался без успеха. Обернулся политрук Климов, крупные желваки выступили на скулах. Не повышая голоса, чуть с хрипотцой, приказал:
— Отставить, Столяров!
— Это же, товарищ политрук...
— Отставить! — повторил Климов.
Столяров неохотно отпустил Мошкова, со злостью сильно толкнув. Мошков, побледневший и растерянный, одернул френч. Столяров, у которого хищно раздулись ноздри, а глубоко сидящие глаза лихорадочно блестели, повернулся к политруку:
— Моих кто порешил? Он — бандит немецкий!
— Неправда, Семен, — возразил Мошков. Голос прозвучал глухо, но даже Качанов, находившийся метрах в пятидесяти от них, услышал его.
— Ты! — закричал Столяров, готовый налететь на полицая с кулаками. — Андрюшка сказывал!
— Неправда, Семен, — повторил Мошков. — Это наговор.
Шум привлек Давыдова — он вылез из палатки.
Климов, свободно козырнув, доложил:
— Товарищ комбриг! Группа полицаев в количестве двадцати трех человек перешла к нам. Старшину группы Мошкова партизан Столяров обвинил в том, что старшина расстрелял его родных.
— Этот? — кивнул Давыдов на Мошкова, который вытянул руки по швам и со смятеньем ждал, что скажет комбриг. Старшину гипнотизировала звезда Героя — в полицаях он даже забыл, что такие есть.
— Он, он! — закричал Столяров. — Брат мой Андрюшка сказывал. Врать не стал бы!
— Повторяю, Семен, — произнес Мошков, — это недоразумение. Можешь проверить. Виноват — служил немцам, но нет крови на моей совести.
— Свинья у тебя съела совесть! — возразил Столяров.
Давыдов разглядывал Мошкова с нескрываемой ненавистью. Взгляд свинцовый. Лицо будто окаменело, и Мишка, увидев комбрига таким впервые, испугался. Что-то должно произойти, чуяло Мишкино сердце. Комбриг произнес сквозь зубы:
— Чистым хочешь быть? Про совесть вспомнил? А когда безоружные семьи расстреливали, деревни жгли, где она была? Сапоги лизали фашистам, холуйничали, теперь шкуры спасаете? Думаете — мы добренькие, забудем? Взять его! — вдруг властно загремел бас Давыдова. Столяров и еще несколько партизан разоружили старшину и скрутили за спину руки. Мошков не сопротивлялся. Вжал в плечи голову и словно сделался меньше. Столяров вдруг изловчился и ударил по щеке, по шраму, Мошков дернулся и, сплюнув покрасневшую слюну, промолвил:
— Я не виноват, Семен!
— Забудь мое имя! — заорал Столяров.
У Климова сердито прыгали желваки. Не повышая голоса, он сказал:
— Не сметь пускать руки в ход, Столяров!
Тот глянул на политрука искоса и вздохнул.
— Своевольничаешь, Столяров, — сердито поддержал политрука Давыдов. — Я этого не люблю!
Мошкова увели в глубь лагеря, чтоб те, кто остались его ждать, ничего о происшедшем пока не знали. Еще взбунтуются, подумают, что с ними так же поступят. У них оружие, не хватало, чтобы разыгралась баталия в самом лагере.
Мишка цокал языком и проговорил, имея в виду Столярова:
— Бешеный так бешеный.
— Раньше он смирный был, — пояснила Анюта, — стрелять не хотел, вера, говорит, не позволяет. А в сорок втором у него отца, жену и дочку расстреляли — озверел. Давыдов боялся на задание его посылать, сам лез на пули, смерти искал.
Давыдов и Климов остались возле палатки, спорили вполголоса, с каждой минутой распаляясь. И вот уже Мишка и Анюта разобрали глуховатый упорный голос политрука Климова:
— Нет, не сделаешь! Это беззаконие.
Анюта зябко поежилась, понимая, что комбриг рассердился: она боялась его такого.
— Беззаконие? — рокотал давыдовский бас. — Отправить на тот свет еще одного мерзавца- — беззаконие? Это моя святая обязанность! С нашим братом они не церемонятся!
— Убивай в бою, но того, кто явился с повинной, кто хочет искупить вину, нельзя. Есть приказ Главнокомандующего!
— Приказ для тех, кто заблудился, но не для палачей. А у этого руки в крови, не подходит он под этот приказ!
— Подходит!
— Столярова спроси!
— Я понимаю Столярова. Но он сам не видал — мог ошибиться.
— Думаешь, у одного Столярова семью погубили, у других нет? Отдай Мошкова, они растерзают его — вот и все следствие. Сегодня же этот мерзавец будет расстрелян.
— Не будет!
— Это почему же? — гневно удивился Давыдов.
— Не посмеешь. И не дадим.
Политрук повернулся и зашагал прочь. Давыдов свинцово смотрел вслед, и лицо стало понемногу отходить. Исчезла окаменелость, мягче стали морщинки у глаз и на лбу, во взгляде появилась растерянность, видимо, Давыдов и сам был не рад таким вспышкам ярости.
Читать дальше