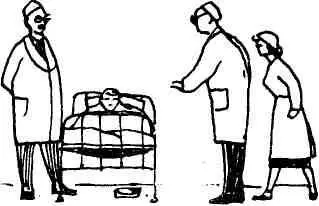Я прервал его:
— Панихидно, товарищ Кайновский. Ой как старо и невежливо. А по сути — клевета. Вы смертельно ненавидите людей.
Он брезгливо усмехнулся:
— Большинство так называемых людей в душе с грязнотцой и развратцем. Не было и нет ничего святого! Выдумка блаженненьких! И все прозелиты новейших убеждений тоже не смогут промыть и очистить нашу мохнатую душу. Сизифов труд! Homo sapiens вечно пребудет нагим и греховным.
— Нет, вы убежденный человеконенавистник. Плюете в людей без стыда и совести. Вы циник-ницшеанец, если не похуже.
Кайновский сердито ответил:
— Пустые дефиниции!
— Продолжайте.
— Во имя чего?
— Жалко, что больше, наверно, не встретимся. Мы бы схватились. И крепко схватились бы, а?
— Нет. Не интересно. — Загадочно прибавил: — Остались при своих. — Встал со скамейки, тихо процедил: — Прощайте. Желаю успехов на поприще пропаганды.
Изящно повернулся и ушел.
Его изящный, безусловно вымуштрованный поворот и щедро снисходительное пожелание, брошенное с тонкой издевкой, вызвали во мне раздражение.
Когда он ушел, я подумал: «Нет, быть пропагандистом — не легкое дело. Не только не переубедил — до сих пор не раскусил его по-настоящему».
Ночь смерти и воскресения
На следующий день я простудился, и с температурой в 40 градусов меня уложили в постель. Двухстороннее крупозное воспаление легких. Казалось, вот-вот задохнусь от недостатка воздуха или от натуги лопнет легкое. Когда кашлял, в груди поднималась непереносимая боль, будто внутри, под левой лопаткой, вонзились горячие ножи.
Лечили сульфамидами, они помогали плохо. Ночью на четвертые сутки ожидался кризис.
Отчетливо помню эту невероятно страшную ночь. Я лежал один в маленькой палате и все время беспокойно думал. Мягко светила матовая лампа, тикали на тумбочке мои карманные часы, я лежал на спине, не смыкая глаз, и мысленно звал Юлю.
Вечером она сказала:
— Эх, не повезло вам. Даже обидно, как не повезло. Ну ничего. У вас богатырский организм. Не верите? Честное слово, организм завидный. Будем надеяться, что все обойдется по-доброму. Всю ночь буду наблюдать за вами. И врач. А дежурит сегодня — Кайновский. Так что, пожалуйста, не беспокойтесь. Вот вам клюквенный морс. Пейте, когда захотите и сколько захотите. — И оставила на подоконнике тонкий высокий графин, наполненный розовым сиропом.
Но то было вечером, теперь половина первого. Где же ты, Юля? Не появляется и доктор.
Около часу мне сделалось плохо, так плохо, что я впервые за время болезни подумал: «Наверно, умру». Я задыхался, не в состоянии повернуться на бок и напиться, не мог сплюнуть густую мокроту. В довершение всего, не мог никого позвать на помощь: голос, такой тихий и слабый, едва достигал двери, а за дверью пустой коридор и глухая ночь — разве дозовешься?
«Ладно, буду умирать. Совесть вроде чиста, ни перед кем не виноват, долг перед Родиной исполнил. Все ведь рано или поздно умирают. Вот и мой наступил черед. Можно умирать спокойно. Главное — спокойно, без паники и сожаления».
И вдруг эту спокойную мысль пронзила другая. «Рано, ой рано, Алексей, ты расстаешься с жизнью. Сколько интересного останется на свете. Ты ведь не сделал и тысячной доли того, что сумел бы сделать. Почти ничего не сделал. Как же можно умирать, ничего не сделав? Нет, не хочу умирать. Еще несколько лет, пусть только год. В году 365 дней… О, теперь я знаю, что такое жизнь. Каждый день, каждый час, каждая минута будут заполнены делом. Все время узнавать и что-нибудь открыть. Непременно что-нибудь открыть. Иначе что за смысл впустую тратить месяцы и годы. И так уже двадцать три года отмахал, а толку, а пользы?! Но что же никто не приходит?»
И снова — спокойное смирение. Оно наступило после того, как я почувствовал, что останавливается сердце. «Ну пусть, коли так. Пожалуй, ничего не сделаешь. Останутся люди, останется солнце. Пусть только люди быстрее кончают войну и начинают мир. И пусть они, люди, живут хорошо. В сущности, все правильно, все хорошо. Останется солнце, останутся люди. Старенькая мать, мудрый, всезнающий Пашка, романтичный Юрка. И Валя, далекая Валя… Не пришлось ведь даже попрощаться. Что поделаешь, я сам не ожидал. Так уж получилось нелепо».
В два — в начале третьего стало еще хуже. Нечем было дышать. Тошнило. В груди полыхал пожар. Мучила сильная жажда. Жутко, когда умираешь один. Словно тебя наказали одиночеством.
Читать дальше