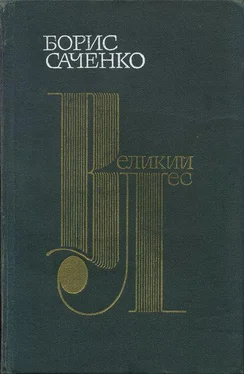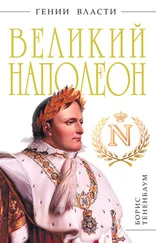«Осень радости не принесла… А зима… Что принесет зима?» — задумался Николай.
Почему-то припомнилось, как жил раньше, всего несколько месяцев назад, как дожидался, жаждал хоть каких-то перемен и всякий раз, укладываясь спать и подымаясь утром, молил господа бога не медлить, поскорее разметать колхозы, вернуть то, что было прежде.
«И вот сбылось, свершилось… Колхозов нет… И перемены, какие перемены повсюду!.. Советская власть была, всем заправляли большевики… Сын, Иван, в начальстве ходил… Был дома Пилип… Костик в школе учился… И Параска с мужем душа в душу жили… А теперь что?.. Война который месяц идет. Красная Армия отступила.
Нет многого из того, что было… Пилип в войске, на хронте. И Параскин Федор там… Живы ли они?.. Иван исчез, а куда — никто не знает… Костик, положим, ночует дома, а где днем шастает, чем занимается?.. Не уследишь за ним… Немцы в деревню приехали, начальство новое поставили… И кого?..»
Не по себе стало, сердце огнем занялось, как вспомнил, что было там, около сельсовета, когда немцы в Великий Лес приехали, начальство новое выбирали.
«И подумать людям не дали… Апанаса Харченю кто-то назвал — его и поставили старостой… А начальником полиции… Сам напросился… И кто, кто?!»
Не мог улежать в постели Николай. Одеяло с себя сбросил, ноги с кровати спустил, сунул в стоптыши-опорки. Прошел к лавке, рубаху, брюки натянул. Стал ходить, топтаться взад-вперед по хате.
«Это ж еще тогда, как только на моем подворье объявился, едва калекой меня не сделал, злыдень… А теперь?.. Что будет теперь? И где защиту искать?.. Привела эта хлюндра на мое оселище, в хату, моими руками рубленную… Надо же на старости лет еще и с таким спознаться… А прогнать?.. Как прогонишь? Скорей он меня прогонит, чем я его. Во двор выйти — и то боишься. Так это ж он в полиции не был, власти не имел. Ладно еще, если не тронет… А если вспомнит, что сын, Иван, партиец, председатель сельсовета?.. Чуть что — и вспомнит. Сам не знает, так люди подскажут. Да и Клавдия, змея подколодная. Не любит меня, знает, что не хотел ее под свою крышу пускать, не хотел, чтоб Пилип на ней женился. И отомстит… Каждое слово припомнит, что ей сказано было, каждый взгляд, что я на нее бросил… Боже, и за что мне в старости кара такая, чем, чем провинился я перед тобою?..»
Упал на колени перед иконой, стал молиться. Жарко, истово, как, кажется, ни разу еще не молился.
— Боже, боже… — шептал Николай. — Никогда я не таил обиды на тебя, никогда тебя ничем не попрекал. Просил только смилостивиться, не карать меня жестоко. И сейчас о том же самом прошу. Ты же знаешь меня, боже, весь я перед тобою, как нагишом, со всеми думками моими, помыслами. Если я чего и хотел, так это жить по-человечески, чтоб всякие жук и жаба не топтали меня, на шею мне не садились. И не было зла у меня на уме — добро, только добро. Чтоб меня никто не тревожил, никто не зарился на то, что принадлежит мне…
Макового зернышка чужого никогда не взял, не украл, не присвоил… Своего мог лишиться, а чтоб где что чужое… Не было такого. Жил, старался, сил не жалел… И видишь — все равно не угодил тебе. Караешь ты меня, жестоко караешь… Жену у меня отнял, детей по свету разбросал, и живы ли они — не знаю. А теперь и надо мною руку занес. Скажи, скажи, боже, чем я тебя так прогневал, чем не угодил?..
Заворочалась на полатях, сползая с постели, Хора. И Николай словно устыдился, перестал молиться, поднялся на ноги. Не хотелось, чтоб кто-нибудь слышал, знал, что его заботит. Даже не взглянув на Хору, накинул на плечи кожух, натянул на голову шапку-ушанку и поплелся, прихрамывая («Будь он неладен, этот рыжий злодюга!»), во двор.
Постоял немного, ослепленный белизной первого зимнего утра, на крыльце, будто не решаясь ступить в снег, потом все же, вслушиваясь в мягкий, ломкий скрип под подошвами опорков, подался к хлеву, отмечая на ходу, что снег неглубок и что в деревне непривычно тихо.
«Спят, поди, люди. А куда спешить? Задал худобе сена, напоил — да и на печь».
«А Пилипу?.. Ивану?.. — пришло вдруг в голову. — Им каково, если снег, мороз?.. И где, где они? Были бы здесь — в обиду отца бы не дали. Не один, так второй заступился бы, защитил… А так… Кто захочет, тот тебя и в землю топчет. Сам-то уже не больно за себя постоишь. Здоровье не то, силы не те. Где, у кого искать защиту?.. Советская власть была… А эта?.. Да и разве это власть, если никого лучше не нашлось в начальники, чем сухорукий Апанас Харченя да этот Рыжман-приблуда?.. Кто к ним пойдет за помощью, кто с ними считаться станет?.. Один юнец, мамкино молоко на губах не обсохло, а второй чужак, его никто не знает, и он никого, ничего тоже не знает… Нет, такой власти в Великом Лесе еще не бывало, сроду не бывало…»
Читать дальше