Мир воцарился. Решили по этому случаю купить арбуз.
Еще при подъезде к злополучному магазину автодорожный знак, запрещающий остановку транспорта на протяжении квартала, вынудил Говорова свернуть в переулок и оставить там машину. А овощная палатка — было видно, как к ней жмется очередь за арбузами, — располагалась напротив и казалась недосягаемой за сплошным потоком ревущих, дышащих огнем грузовиков, за стремительно летящими такси с оранжевыми гребешками на крышах, за ядовито-синим дрожащим маревом чада. Но арбуз был бы кстати на даче, где можно укрыться от грохота, фырканья и скрежета огромного, раскаленного зноем города, поэтому, решив оставить Манечку в машине, Говоров с Ириной Михайловной направились к видневшемуся вдали переходу.
Вообще-то место в переулке, где стояла машина, не нравилось Говорову — из-за близости грязно крашенного, крытого желтым рубчатым пластиком сооружения, из тех, что называются у нас красивым словом «павильон». Возле него роилась определенного вида толпа. Морщась при виде завсегдатаев павильона, в какой-то степени знакомый с их нравами (в такой же примерно обстановке с машины Говорова однажды в мгновение ока была скручена антенна), Говоров — а по мнению Ирины Михайловны только он мог влиять на Манечку — приказал ей не высовывать из машины и носа. Для страховки он повернул в дверце ключ… Но когда они с Ириной Михайловной, злые от путешествия по пыльной чадной улице, от долгого толчения в очереди, вернулись в переулок, машина стояла пустая, с открытыми дверцами, около нее «касательными», «встречными» курсами прохаживались двое давно не брившихся молодых мужчин, явно привлеченных покинутым автомобилем… Но это была лишь «часть вопроса».
— Маня! — закричала Ирина Михайловна, кидая отчаянные взгляды по сторонам.
Они увидели Манечку средь чахлой растительности близлежащего скверика в обществе долговязого паренька лет двенадцати и невзрачной белобрысой собачонки, которую он держал на поводке. Это была, как успел заметить Говоров, плюгавая тварь, отдаленно, пародийно напоминавшая фокстерьера, за которого и была, вероятно, выдана щенком на Птичьем рынке, а упаси боже, если в дворняжке, полной обаяния в своем «чистом» виде, есть хоть капля «породы», «благородной крови». Как и в людях, сия капля подчас определяет весь характер переродка — он болезненно спесив,, зол и вероломен… Эта мысль скользнула в Говорове просто так, при виде облезлого существа с торчащими, как у кошки, усами, — с данного момента все стало тихо и неуловимо рассеиваться. Ушел из сердца Ирины Михайловны страх, с печально разочарованными лицами удалились в сторону павильона забывшие про бритье молодые люди, побрел в глубь переулка мальчик с заносчиво оборачивающейся в сторону Манечки собачонкой.
И только в машине Ирина Михайловна заметила, что Манечка с полными слез глазами поддерживает одну руку другой.
— Что с тобой?
Манечка выставила ей локоть, так, чтобы не видел Говоров, прошевелила губами:
— Вот…
— Что это? — тоже одними губами, одними глазами спросила Ирина Михайловна, увидев чуть пониже Манечкиного локотка кроваво-синюю сливу.
Манечка снова, будто какую-то собственность, прикрыла руку ладошкой, пытаясь диким вращением глаз убедить Ирину Михайловну, чтобы ничего не знал Говоров. Но даже если бы он, оберегаясь в потоке машин, не прибегнул к смотровому зеркальцу, ему и тогда, по мгновенно выстроенной логике, все стало бы ясно.
— Тебя укусила собака?
Притормаживая, лавируя средь обгоняющих его машин, Говоров начал прибиваться к тротуару, пока не остановился впритирку к каменному бордюру. Он видел, как побледнела, зажмурив глаза, Ирина Михайловна, повернулся к скукожившейся, испуганно вперившейся в него Манечке.
— Ну, отвечай же!
Манечка молчала, стиснув зубы. На минуту Говорову сделалось легко, почти весело.
— Дача отпадает… Мы теперь же едем в поликлинику, где тебе будут делать уколы против бешенства. Двадцать четыре вот таких… — он широко развел два пальца, — …укола. В живот! — Почему-то ему доставило особое удовольствие несколько раз повторить это «в живот!» при виде скрючившейся, заслонившейся, как от шприца, Манечки.
— Нет! — вскричала Манечка. — Нет!
Позже выяснится: больше всего на свете Манечка боится хирургической иглы.
Неожиданно близко он услышал голос Ирины Михайловны:
— Что ты говоришь? Какие уколы? Какое бешенство?
Позже Говоров со стыдом вспоминал, как, подхлестнутый прострельными Манечкиными взвизгами «Нет! Нет! Нет!», он, давясь от смеха и строя на лице зверские гримасы, пытался показать Ирине Михайловне, к а к о е бешенство угрожает Манечке, чем вызвал испуганную — не к «бешенству» Манечки, а к его, Говорова, состоянию, реакцию Ирины Михайловны и вспышку неподдельного интереса в глазах самой Манечки, будто он решил ее посмешить своими «рожами».
Читать дальше
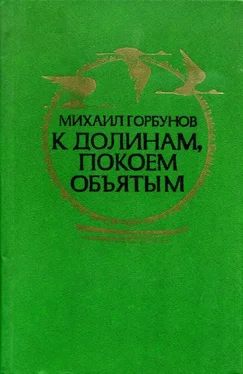


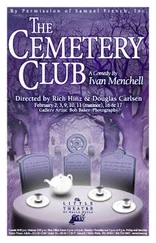
![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)





