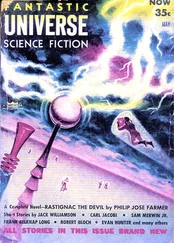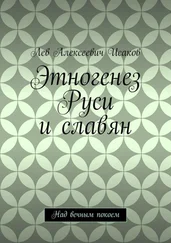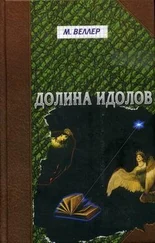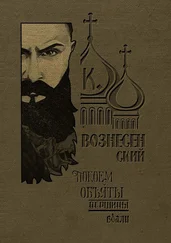А между тем вслушайтесь: Вары… Незамерзающая зимой река Тепла… Разве не ясна очевидность «истоков» этих выразительных — на слух, кажется, даже на запах, на ощущение горячей воды — названий… Или живописно разбросанные по холмам и долинам рек городки и поселения: Даловице, Драговице, Тугнице, и чуточку дальше — Остров, Ходов. Божечаны… Наконец, главная текущая здесь река Огрже и еще один город — Стран?… В этих городах сохранились целые порядки старых каменных, с крохотными, наподобие бойниц, оконцами, домиков под черепичными крышами, в которых еще живут, но которые не что иное, как музейные реликвии: на них укреплены таблички с указанием века постройки — шестнадцатый, семнадцатый; восемнадцатый… Сохранились обводные оборонительные валы, а на вершинах обрывистых возвышений, над самыми теми древними улочками, над крохотными торговыми площадями, — развалины старых крепостей. Когда видишь все это, история проступает как первый прекрасный слой живописи сквозь позднейшие, продиктованные предубеждением и корыстью смутные пласты, легко обозначаются славянские корни этой земли, постоянная борьба с «варягами» — Страж, Огрже, река, служившая естественной огорожей славянских земель… Велась военная оборона, оберегалась вера. В самом поселении Вары чешский дворянин Грознат почти за три века до сооружения охотничьего замка Карлом заложил монастырь в пику саксонскому цистерцианскому монастырю — духовной цитадели давно ведшейся немецкой колонизации местных земель. Самые тяжелые ее времена настали в правление последних отпрысков чешского княжеского рода Пржемысловичей, открывших внешние ворота в Поогржье…
А Карл? Его статуи из серого песчаника, поставленные в городе, не говорящие, заметим попутно, о взлете творческого вдохновения ваятелей, кроме, может быть, скульптуры (неизвестного автора!) первой половины восемнадцатого века, установленной на стене Народной библиотеки, полны какого-то тихого благочестия; даже «держава», долженствующая олицетворять безграничную власть монарха, выглядит в руках Карла совсем безобидно, словно мячик, которым вздумал поиграть император.
Но на самом-то деле? Помышлял бы выходец из династии Люксембургов, буде все так и случись, как гласит легенда, о «даре» своему, то бишь чешскому, народу?.. Не станем глушить высокий глагол легенды характеристикой, «выданной» Карлу Четвертому Марксом… Известно, что, стремясь превратить Чехию, объявленную наследственным владением Люксембургов, в самое сильное государство империи, он пекся об утверждении могущества с в о е г о дома, а, укрепляя королевскую власть, особое покровительство оказывал, однако же, немецкому патрициату. И город все-таки назвал Карлсбадом… Не есть ли основание Карлсбада одним из пунктов неутомимых усилий монарха, направленных, как писал Карл Маркс, к тому, чтобы «…расширить за счет империи свои наследственные владения»?
Пусть будет так! Владыки смертны, в отличие от накопленных ими богатств, вещных и духовных, которые, пройдя чреду преемников, в конце концов становятся национальным и, более того, народным достоянием. В этот ряд надо поставить и Карловы Вары. И не стоит ли отдать должное просвещенному — это общепризнано — монарху хотя бы за то, что во времена, когда средневековый взгляд на курорт как на публичный дом еще чуть ли не преобладал над гуманистической позицией, возрождавшей античное отношение к минеральным источникам как к средству лечения недугов, он выбрал последнюю. Позабудем сейчас о побуждениях императора «с мячиком», вняв хотя бы тому факту, что и революционер Карл три года подряд, когда состояние его здоровья требовало неотложного лечения водами Вржидло, приезжал в город, основанный Карлом-императором. Кстати, известно, что Маркс, лечась в Карловых Варах, бывал на фарфоровой фабрике в Доуби, где наблюдал труд рабочих-ремесленников, и это дало ему материал для кое-каких экономических выводов.
Долгое время город был всего горсткой домиков с острыми крышами и зелеными ставнями, угнездившихся в стороне от дорог и торговых центров у подножий скалистых гор по излучине Теплы по обе стороны поставленного Карлом замка. Вржидло бурлил и поднимал клубы пара. Стояла деревянная постройка — купальня: в то время воду еще не пили, в ней именно купались. Ванные комнаты были устроены и в домах предприимчивых горожан, вода поступала в них по расходящимся от Вржидло деревянным желобам… Бо́льшая же часть жителей занималась все же издревле развитыми здесь ремеслами, и немногие посетители курорта увозили с собой тонкой работы ножи и вилки, оловянную посуду, ружья и пистолеты, о которых тогда уже шла слава, и не менее известные карлсбадские… булавки. Пожары, наводнения, эпидемии, грабежи, войны — все прошел город, погибая и возрождаясь.
Читать дальше
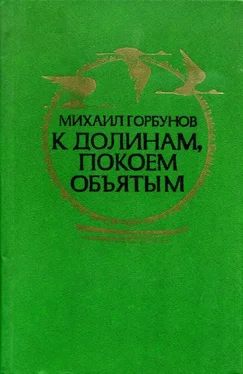
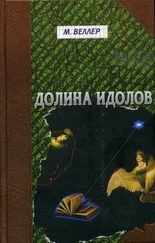

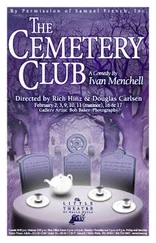
![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)