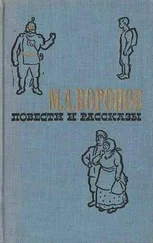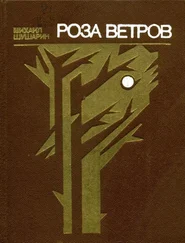Медленно наступала темнота. Усилился ветер. Понеслись по лощинам снежные вихри-великаны, сталкивались друг с другом, рассыпались. Большое неяркое солнце спряталось за скалы. Пора. Сашка пополз от валуна к валуну, зарываясь с головой в снег. Сколько надо времени, чтобы под пулеметным огнем, по-пластунски, незаметно для врага преодолеть почти полуторакилометровое расстояние? Таких, поди, и нормативов спортивных нет. В полной тьме Сашка выполз к ручью, на шершавую, вздувшуюся как огромный спрут, ободранную ветрами наледь. Где-то здесь должен быть человек!
Сашка это знал точно, потому что хорошо видел, как секли немцы по левому берегу ручья, терюша сугробы. Где он? Сашка обследовал каждый валун, каждый сугроб — никого не было. Хотел уже уходить, когда заметил под снежным карнизом, образовавшимся на берегу ручья, лежавшего ничком снайпера. Осторожно подполз к нему, повернул лицо и вскрикнул. Это был Рамазан. Вражеская пуля вошла в заключичную ямочку и вышла у поясницы. Снег подтаял от крови. Сашка вцепился ему в руку, долго нащупывал и наконец облегченно вздохнул: пульс работал.
— Рамазан. Это я. Слышишь! — зашептал он. — Сейчас тебе будет хорошо.
Сашка размотал плащ-палатку, осторожно подсунул ее под Рамазана, закрутил лямки и начал потихоньку тянуть вдоль ручья, к своей обороне. Когда дотащился до кустарников, сделал передышку. Присел к раненому, шепотом спросил:
— Ну, как ты?
Губы Рамазана дрогнули:
— Видел я, как ты того фашиста снял… Я их хотел отвлекать от тебя…
— Спасибо, Рамазан, — Сашка гладил его лицо, шептал какие-то обнадеживающие слова и плакал.
Рамазан повторил сказанные когда-то Тимофеем Лопатиным слова:
— Я уберусь… Зинку и детишек не забудь, браток… Лисиц я не убивал, ты это лукавил… Никакого зверя не убивал. Прости.
— Правильно, Рамазан, — обрадовался Сашка: коли уж парень про лисиц заговорил, значит легче стало. — Это я врал комбату!
Короткой была радость. Рамазан внезапно дернулся всем телом и не произнес больше ни слова. Сашка, чтобы вернуть ему сознание, растирал снегом лицо, уши… пробовал даже материть. Но быстро понял необратимость случившегося — Рамазан умер.
Сашка поднял и вынес его тело в расположение части.
Наутро по приказу старшины трое снайперов сколотили из теса-однорезки легкий гроб. Похоронили Рамазана у подножья замшелой скалы. Вся рота была выстроена у могилы. Три раза ударили из винтовок. Маленький комбат сказал, что Карлеутов был достойным примером великого служения Родине. Больше речей никто не произносил.
* * *
С войны солдаты возвращались по-разному. Кто раненый пришел, кто — здоровый, кто шмуток понавез из Германии, всего — от ковров и мотоциклов до детских пустышек и женских панталон, а кто с единственным вещмешочком походным заявился. Это зависело от того, сколько у кого совести. Ясное дело, упрекать за трофеи никто не упрекал, да и хвалить, по-моему, не хвалили. Кто, говорят, попа любит, а кто и попадью.
Сашка Лопатин протопал всю войну, живой остался. Вез с собой маленький звонкий аккордеон, что подарил ему при прощании один немец (тоже Александром звали). «На, Сашка, — сказал он, — на память. Ты — гут человек!» Все богатство Сашкино — вещмешок с мылом, котелком, двумя парами теплого белья и полотенцем да аккордеон. Зато наград у сержанта подходяще: два ордена Славы да «Красная Звезда», две медали «За отвагу», да «За оборону Заполярья», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Праги»… И носил их Сашка не в кармане и не в вещмешке, а на груди. Всегда. Постоянно. Не на базаре куплены.
Когда эшелоны с демобилизованными катили по польским землям, тысячи людей выходили встречать русских. Улыбки, цветы, вино! Можно было просто так выйти из вагона и поцеловать самую красивую девчонку. И она, эта девчонка, и он, сержант Лопатин, были молоды, красивы и счастливы. Никто за это не осуждал, не обижался. Свалили к чертовой матери треклятый фашизм. Оттаивали у людей сердца. Было время самых больших надежд.
Когда жарким июльским днем вышел Сашка на перрон станции своего районного поселка, он, в первую голову, направился в чайную. Заказал графин водки и обед.
— Графина-то тебе, поди, много будет? — спросила сухопарая буфетчица.
— Мне немного, — ответил Сашка. — Мне его даже мало, гражданочка. Я побольше заработал.
— Гляди, сынок, как лучше, — согласилась она.
За дальним столиком сидели трое стариков, казах и двое русских. Сашка сел четвертым. Казах достал из мешка, стоявшего под столом, круглую буханку хлеба и, прижав ее одним краем к груди, ловко располосовал сделанным из литовочного жала ножиком. Положил каждому по нескольку ломтиков.
Читать дальше