В блиндаж ввалился перепачканный в глине Буров. Отряхнув брюки, он сел на край нар. Поглядел на Холмогорова, улыбнулся чему-то, потом сказал:
— Считаешь?
— Что «считаешь»? — не понял Холмогоров.
— Что? Ясно, бомбы. Что еще осталось считать? — Буров беззвучно рассмеялся и показал белые как снег-зубы.
— Нечего их считать.
— И я так думаю, — ответил Буров и вдруг начал рассказывать: — Сейчас возвращаюсь через первый взвод и встречаю Варфоломеева. «Как, — спрашиваю, — считаешь?» Бомбы то есть. А он: «Чего считать их? Война еще не знамо сколь продлится. Так если начать сейчас счет вести — цифр не хватит». Я, откровенно, немного даже растерялся от такого ответа. Говорю: «Ефим Григорьевич, гляжу я на тебя и не пойму: у всех в лице появилось что-то новое… ждут боя, а у тебя…» Он улыбнулся мне, отвечает: «Значит, боятся, — и задумался. — Что мне краснеть, поджидая их?.. Я не девица, и они не парни». — «Ну, не краснеть, скажем, а думать, взвешивать…» — «Я все взвесил, — говорит. — Подойдут, будем драться…» Одним словом, поговорили.
— Ложись-ка, отдохни, — пододвинувшись к стене вплотную, тихо сказал Холмогоров.
Буров отдыхать не стал. Вспомнив, что хотел провести политинформацию с бойцами второго взвода, поднялся и ушел.
Холмогоров полежал-полежал и сел, а потом вышел из блиндажа. Огляделся. От КП Похлебкина шли двое. Понял — не комбат. Немецких самолетов уже не было. Над лесом, за третьим взводом, еще плавала сизая дымка пыли. На душе Холмогорова стало тоскливо до тошноты. «Хоть бы начиналось скорей, что ли?» — И он снова поглядел на тех двоих, идущих от штаба батальона. И вдруг в одном из них узнал по угловатому телу и медведеподобной походке Чеботарева. Не веря, поморгал глазами. Опять вгляделся и вдруг обрадовался, заулыбался. Шестунину, который сидел на ящике возле землянки для отдыха личного состава и писал, видно, письмо семье, крикнул:
— Тимофей, сюда!
Тот как ошалелый, бросив все, кинулся к нему.
— Смотри! — кричал он бегущему старшине. — Чеботарев же это! Чеботарев!
Шестунин, сообразив, в чем дело, остановился. Повернулся в ту сторону, куда указывал рукой Холмогоров. Подойдя уже к командиру роты, сказал:
— Петр… точно.
Холмогоров, радуясь, засмеялся. Вспомнил разговор с Похлебкиным, когда тот, находясь на пункте боепитания роты, выговаривал ему, что плохо работает и даже не списывает со счета подразделения Чеботарева, который, теперь, дескать, ясно, не вернется.
— Пополнение, — наблюдая за подходящим Чеботаревым, говорил вслух сам себе Холмогоров. — Солдат свой дом знает.
Когда Чеботарев с сопровождающим из батальона бойцом подошел к Холмогорову и, отдав честь, начал докладывать, командир роты махнул на него и стал трясти ему руку. Выспрашивал, где был.
Чеботарев похудел. Кожа на лице потемнела, щеки ввалились, и оттого скулы выдавались еще больше. Глаза смотрели холодно и жестко. Только грудь и осталась такой же широкой и сильной да раздували рукава гимнастерки будто отлитые из железа, крепкие мышцы. Во всем поведении Петра — в выражении лица, глаз, в том, как он непринужденно размахивал руками, — во всем этом чувствовалось, что в нем что-то изменилось, чем-то он не походит на себя прежнего. «Будто лет пять жизни ему прибавило», — подумал командир роты.
Когда Чеботарев смолк, Холмогоров сказал старшине:
— Проводить прикажи кому-нибудь во взвод, а то еще на мины напорется. — И к Петру: — Обедал хоть?
Чеботарев утвердительно кивнул и покраснел, не понимая, почему так душевно расположен к нему командир роты. «Наверно, что семью вывез», — решил наконец он и покраснел еще больше, так как считал, что за это благодарить нечего, потому что поехал за семьями по приказу.
Шестунин ушел к землянке за провожатым и скоро вернулся со связным Холмогорова. Чеботарев направился во взвод. Холмогоров смотрел ему вслед и вдруг вспомнил, что еще не ел. Он попросил старшину сообразить ужин. Шестунин побежал к ротной полевой кухне. Холмогоров перевел взгляд на шоссе и почти у горизонта далеко распростершейся перед ним равнины заметил движение. «Отступают, наши отступают», — понял он и судорожно сжал кулаки. Ему не верилось, не хотелось верить, что сдерживавшие впереди фронт войска могут под ударами гитлеровцев отступить. «Тылы, наверно, отходят», — немного успокаиваясь, стал убеждать себя Холмогоров и сел на выпиравший из земли валун. Телефонист из блиндажа по его требованию принес бинокль. Холмогоров долго всматривался в полотно дороги, в движущиеся по ней машины и растянувшийся в промежутках между ними обоз. «Тылы… Пожалуй, это и не тылы, — сделал он наконец вывод. — Части какие-то идут». — И побежал в блиндаж докладывать обо всем увиденном Похлебкину. Телефон, как назло, шипел, и разобрать, что отвечал комбат, было почти невозможно. Ругаясь по телефону на связь, майор в конце концов положил трубку. Холмогоров снова вышел из блиндажа. Машины уже находились перед позициями первого взвода — въезжали в деревушку. Их хорошо можно было различить и так, но Холмогоров все-таки опять приставил к глазам бинокль.
Читать дальше
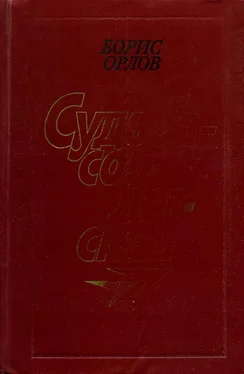










![Борис Орлов - Святой Грааль [СИ]](/books/410423/boris-orlov-svyatoj-graal-si-thumb.webp)