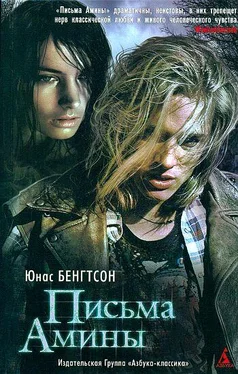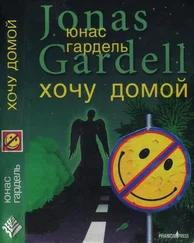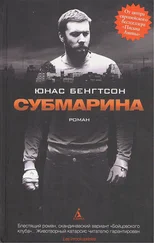Когда вернусь в квартиру, позвоню матери. Просто дам о себе знать. Скажу, что у меня все хорошо. Я не видел ее несколько лет и столько же не говорил с ней. Это не ее вина. Это я попросил ее не появляться. Не приходить в больницу. Не мог этого вынести, не мог смотреть ей в глаза. Даже когда она улыбалась и делала вид, что все хорошо. Даже когда я был в приличном состоянии и мы могли поговорить о том о сем. Всегда я видел в ее глазах, кто я такой. Или что я такое. Что все пошло не так. Что перед ее глазами проходит всё: будущее, внуки, Рождество с жарким из утки. А я сидел и пытался ее подбодрить, рассказывая, что у новых таблеток не так много побочных действий. Что я от них не так сильно потею или не так трясусь, как от других. И она старалась выглядеть довольной, она старалась. Когда тебя окружают больные люди, это твой мир. Можно быть более или менее больным. Но это мир, который ты знаешь, люди больны, а персонал, санитары и врачи, просто играют свои роли, выполняют определенные функции, это мебель с кожей. Мир болен. А тут воскресенье, приходит мама с пирожками и напоминает тебе, что все могло бы быть иначе. И я попросил ее не приходить. Я сказал, что сам позвоню ей, когда снова буду готов ее увидеть. Этот день не настал.
Я встаю со скамейки. Пробую особенно не задумываться о том, как найду обратную дорогу до квартиры брата. Если перенапрягу голову, окажусь где-нибудь в Швеции. Предоставляю ногам вести меня обратно. И хотя они наверняка дают круг, я дохожу. Ноги помнят дорогу.
У меня на коленях большой дизайнерский телефон. Я снова сижу на диване брата. Нашел бумажку с маминым телефоном.
Я провожу рукой по глянцевой коже дивана. Нежный коричневый цвет. Те коровы не ходили вблизи от изгороди из колючей проволоки. Расправляю клочок бумажки, на котором записан номер.
Снова отставляю телефон. Слишком поздно. Я позвоню ей завтра. Сейчас уже слишком поздно.
В какой-то момент я усомнился, что выбрал верную дорогу, но вот стою перед домом. Он все такой же: большая двухэтажная фахверковая вилла, красный кирпич, черное дерево. Разросшаяся, неухоженная живая изгородь. Я открываю калитку и направляюсь вокруг дома к лестнице в подвал. Стучусь три раза в дверь, никто не отвечает. Стучу снова, сильнее.
Дверь открывается, на пороге стоит Дэвид. С помятым лицом, словно он только что оторвал голову от подушки. На нем труселя с большой буквой «S», как у супермена из комиксов, и белая майка. Руки тонкие, белые. Он обзавелся пивным животиком. Волосы теперь короткие, покрашены в черный и торчат во все стороны. Он щурится на солнце, подвал позади него темен. Сначала он будто ни черта не понимает, потом узнает меня:
— Янус, эй, это ты, Янус?
Дэвид не мог ужиться с родителями и еще в гимназии снял подвал на вилле, владельцев которой все равно никогда не было дома. Мы проводили там ночи, болтали, слушали музыку, пили, курили гаш. У Дэвида почти всегда был ящик пива и пара граммов покурить. Утром я садился на свой старый женский велосипед и, покачиваясь, ехал домой по дорожкам среди вилл.
Дэвид делает пару шагов навстречу и обнимает меня. Я пытаюсь ответить ему тем же. Чувствую его член у своего бедра, Дэвид, наверное, только проснулся. Он делает шаг назад и смотрит на меня. Улыбается и кивает пару раз, берет меня за локоть и тянет в дом, в темноту. Воздух в подвале затхлый, спертый. Когда глаза привыкают к сумраку, я узнаю все: плакаты с рок-группами, у которых годами не выходило ничего нового; черные мусорные мешки, заслоняющие окна, так что Дэвид может бодрствовать всю ночь и спать днем; продавленный диван и изразцовый столик, принесенный с помойки, весь в отметинах от сигарет. Пустые пивные банки и упаковки от пиццы тоже на месте. Дэвид находит на полу брюки и натягивает их.
— Как приятно тебя видеть, Янус.
Он наконец-то проснулся и широко улыбается:
— Да ты же все тут знаешь. Садись.
Я обхожу столик и падаю на мягкое кожаное сиденье. Тело еще не забыло, каково это, утопать в глубоком диване. Я столько раз здесь сидел, пока Дэвид стоял у холодильника.
— Пивка попьем?
Это не вопрос, он уже вынул пиво из холодильника и открывает зажигалкой. Отщелкивает крышки в раковину, одна попадает, другая — нет. Кухня Дэвида состоит из двухконфорочной плитки на столе, старого шумного холодильника и стальной мойки, которая, по всей видимости, предназначалась когда-то для грязных кистей и масляных тряпок. На полу внахлест лежат остатки старых ковров.
Читать дальше