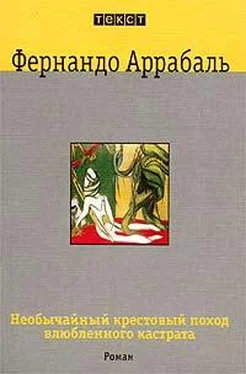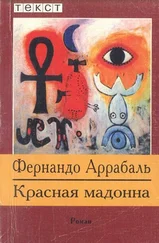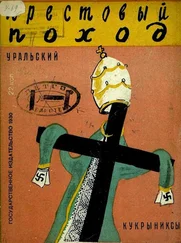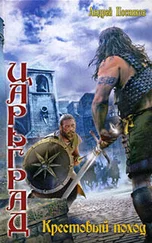Сесилия, небосвод мой златокудрый, знала, что я буду верен ей во веки веков, хоть в бушующей буре, хоть в пекле огня, столь же жаркого, как и тот, что пылал во мне. Моя непредумышленная кастрация не мешала мне добиваться в любви поразительных успехов. Сногсшибательных и ошеломляющих до такой степени, что я запросто мог бы при случае предаться адюльтеру как последний стрекозел и вертопрах. Я подозревал, что эти жизнерадостные и целомудренные игрища имели бы еще более внушительный вид, будь участниками их красот только подобные мне импотенты – действительно, и домашний суп приедается, если есть его с утра до вечера.
А полиция пусть и не мечтает, чтобы в середине второй главы моего романа я обмолвился о ее обвинениях – ведь стены имеют уши! Если в Корпусе умирали, естественно, что там также и убивали. Я был сыт по маковку всеми этими инсинуациями, грубыми и неделикатными, как приветственный клич клики каракатиц в глубинах далеких морей.
Тео никогда не дошел бы до подобных крайностей, если бы столько не выстрадал, а между тем он в жизни не читал о муках Дамьена {2} 2 Очевидно, имеется в виду Робер-Франсуа Дамьен, совершивший покушение на Людовика XV и приговоренный к четвертованию.
. Он был прост и категоричен, как ночной столик, и поэтому любил ласкать свою грудь, отдыхая. И Сесилия, медвяная роса ликования моего, тоже, когда почивала от трудов, любила ласкать грудь Тео, не отдавая концов.
Из чистой ревности пара-тройка пациентов, поступив в Корпус, заявили, что не позволят себя доконать такому смертикулу ( sic ), как я, в подобном вертепе; лучше умереть, говорили они. Сколько людей завидовали мне черной завистью и зеленели от злобы. О, если бы родители научили меня санскриту, когда мне было пятнадцать лет, я мог бы узнать мнение белого коня Генриха IV и какое изумительное интервью опубликовал бы на горе моим коллегам!
Вскорости я обнаружил, что мои неутомимые и приятные во всех отношениях читатели ничего не знают ни обо мне самом, ни о том, как я учился медицине, – должен сказать, отменно и в западом полушарии. Приходится признаться со всею скромностью, но не умывая рук, что в час моего рождения, невзирая на большое будущее, которое сулил мне этот мир, я был всего лишь младенцем-сосунком. Я научился говорить без малейшего иностранного акцента гораздо быстрее и лучше, чем Пикассо по-французски. О! Если бы я нашел себя в живописи или хотя бы, снизив притязания, в пластической хирургии – ведь не по красивым перьям ценят дичь, а по жирному мясу.
Очень скоро я решил посвятить свой непонятый гений созданию лучшего из миров и жить при этом самой возвышенной любовью.
Но еще в университете я понял, что врачи – это стадо мулов, за исключением тех, кого Мао Цзэдун произвел в доктора медицины после трех недель обучения.
Пять или шесть лет зубрить на медицинском факультете перечень тропических болезней (когда тропиков больше не существует) или же костей поджелудочной железы авиатора – дело не только тяжкое и утомительное, но и антидиуретик почище старого доброго саксофона.
Закончив интернатуру – учился я на полупансионе и без глубоководного скафандра, – я написал свою знаменитую диссертацию о кастрации. Я доказал, что это явление наследственное, как самурайский клич. Ради чистоты результата я упомянул в эпилоге (написанном как пролог) исключение, подтверждающее правило: семью кастратов по всем линиям, которая из поколения в поколение на протяжении семи генераций вовсе не имела потомства, даже побочного. Я посвятил этот шедевр своего ума Сесилии, венчику моему, как вечернее небо прозрачному.
Но университетские профессора отнеслись ко мне без должного внимания, равно как и без кларнета. Тем хуже для них и для Науки. Поэтому мою знаменитую диссертацию постигла участь проклятого гения: она была погребена в молчании с примесью равнодушия, и для полноты картины не хватало только отрезанного уха вашего покорного слуги и его бархатных штанов.
Родители мои обращались со мной как с ребенком; мать до самой своей трагической и скользкой кончины, по сей день памятной мне, хотя я в ту пору отпраздновал свой тридцать шестой день рождения, укладывала меня в постель с куколкой-погремушкой, которая заливала зенки как настоящая. Я не обижался, потому что в эти годы уже имел богатый жизненный опыт, и к тому же камерная музыка никогда меня не раздражала. Мои родители погибли глупейшим и случайнейшим образом, в чем могут убедиться мои благоуханные и просвещенные читатели. Отец, будучи за рулем неблагонадежного автомобиля – даже не гоночного, – одновременно для пущей непринужденности предавался пьянству до положения риз.
Читать дальше