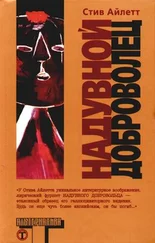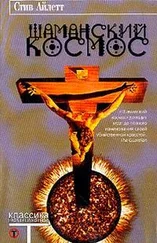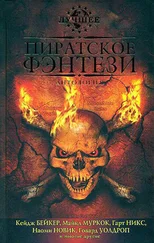– Первый раз, последний раз – какая разница?
– Для полиции большая, сэр.
– Но полная херня для жертвы, Гувес. Вот тебе и так называемое правосудие.
Я отвёл его на место происшествия. Гувер наклонился к телу.
– Боюсь, он никогда не вернётся к комнатной температуре, сэр.
– А это что такое, во имя кипящего ада? – изнурённо спросил я, указывая на почти завершённое изображение, лежащее на полу за телом. Нарисован был я, лицо искажено убийств венной яростью, несусь вперёд с поросячьей свинчаткой, поднятой во имя насилия. За моей спиной по стене плывут плюшевые ангелы.
– Он был прав, мои орлиные черты имеют божественный оттенок.
Гувер объяснил с помощью слов и набора сложных движений рук и ног, что картину могут использовать как доказательство против меня. Жизнедеятельность Трейса ограничивалась кровотечением, его жидкости смешивались с краской там, где он шмякнулся на пол с редкостным рвением.
– Меня не поймают. Насколько трудно это будет?
– Для вас, сэр? – спросил он с судейским выражением. В этот момент из помещения слуг раздался взрыв шума, и мы с картиной оттянулись вверх по лестнице. Я нырнул в комнату Трейса и заменил работу на мольберте, слушая, как остальные просыпаются и спускаются вниз. Сквозь дом прозвенел вопль.
– Он мёртв!
– Мёртв? В такой час?
– Мейбл, у вас так принято?
– Убийца воспользовался поросячьей свинчаткой и разбил камень. Боюсь, теперь она ничего не стоит.
– О Боже, зачем же использовать моё украшение? По всему дому полно разных труб!
– И это то, что у вас принято считать убийством?
Итак, я забыл свинчатку на месте! Ухватив краски и изобличающий холст, я бросился к себе в комнату, где Гувер собирал вещи на тюремный срок.
– He надо, Гувес, – я переделаю картину, чтобы намекнуть на суицидальное отчаяние. Этот опасный псих как раз мог отколоть что-нибудь подобное.
– Сэр хоть раз в жизни вообще рисовал?
– В свой последний час Трейс рассказал мне больше, чем стоило бы знать. Он говорил, что художник обязан чахнуть в башне, заворожённый унынием. Этот человек и его самоцели лишились всех моральных прав на существование.
– Самоцели, сэр? – Гувер продолжал паковать вещи, а я выдавил краску прямо на кисть. – Мне жаль, но формулировки различаются.
– Самоцель, Гувер. Стремление показать, что твои слова или действия имеют куда больше ценности или смысла, чем на самом деле.
– Мои извинения, сэр. Однако он лишился их полностью.
Я услышал, как гости быстро произносят последовательные утешения и удаляются в кровать. Я же бросил лист на рисовальные принадлежности и начал громко храпеть, чтобы тётя Мейбл не вломилась ко мне, но она вошла и обнаружила, что свет включён, а я стою посреди комнаты и храплю, как бык.
– Я… объяснял вот Гуверу, как правильно паковать чемодан, и ужас как разозлился.
– Ладно, – сказала Мейбл, нахмурившись, – я просто зашла сказать, что у нас тут случилось леденящее кровь убийство.
– Убийство? В такой час? И кто же это?
– У тебя дела – лучше обсудим всё утром. Спокойной ночи, Келтеган.
Не раньше, чем она ушла, я вернулся к холсту, натирая кисточкой решительное зрелище, пока не убедился, что стиль Трейса несомненен, и никто не догадается.
– Я сделал это, Гувер, – грунтовка правды целиком и полностью покрыта коленями, ужасающими вспышками работы и архитектуры, чудесами и волосами, годами, сокрытыми в тенях, грустными сторожевыми псами, сердцами и дровами, красными масками, прославленными судьями, консервированными детьми, омерзительными горбунами, кишащим крысами багажом, туманом и легендами.
Но Гувер уверил меня, что больше похоже на клубящуюся курицу, ходящую, как во сне, в голубом пламени.
– Как тебе йоркширские пудинги рядом со шпилем, вот здесь?
– Разрешите мне, сэр.
Гувер взял кисть и за пару минут создал резкий портрет кислой дамы в форме ёлки, регенерирующей на сельских просторах.
– Нет, нет! – взвыл я. – Трейс был опасным психом! Я не смог добиться от ублюдка ни капли смысла – а я пытался со слезами, бегущими по щекам! Надо избавиться от этой твоей точности – дай-ка сюда кисть!
Я работал всю ночь, рисунки становились всё более странными с каждым часом. Двадцать одна подколодная гадюка греется на солнце в жаровне на берегу моря Эрл Грей, а по соседству высоченный священник заткнул уши, как гиппопотам. Любопытные торговцы выходят из безумного безделья, их рты – как клетки. На переднем плане я поместил качественное собственное изображение, размахивающее окровавленной поросячьей свинчаткой.
Читать дальше