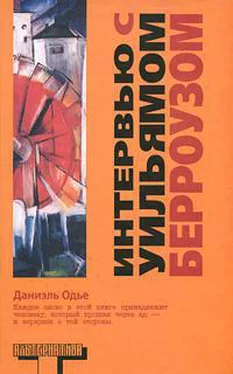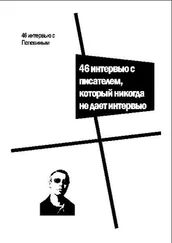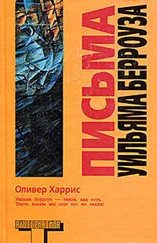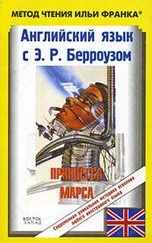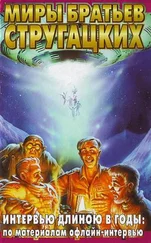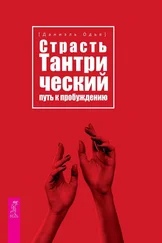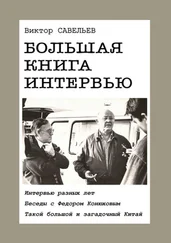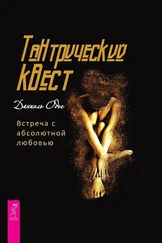В.: Способны ли еще люди, засевшие, как вы говорите, на «помойке слов», чувствовать жестокость ваших слов? Или же необходимо физическое насилие, дабы вытряхнуть человечество с этой помойки?
О.: В общем-то если человек действительно привязан к словам, то он, читая мои книги, не испытает ничего, кроме автоматического отвращения. Возможно, существует необходимость физического насилия, которое и без того происходит повсеместно. Альтернативы я не вижу, поскольку истеблишмент ни за что не изменит своих позиций.
В.: По-вашему, любые меры, включая физическое насилие, изменят людей, привязанных к словам?
О.: Насилие может их устранить. Люди, полностью зависящие от слов, вроде судей и политиков, не пожелают меняться. Само собой, если привязанные к словам не хотят эволюционировать, а развитие все же происходит, то такие индивиды в конце концов исчезают — в результате акта насилия или какой-нибудь катастрофы.
В.: Какое место занимает в вашей работе юмор?
О.: Ну, я бы не назвал свои работы юмористическими, но юмора в них предостаточно.
В.: Ваше описание ада предполагает существование его противоположности, выдвигаемые вами обвинения подразумевают возможность искупления; это можно воспринять как возможный путь человечества к выходу. Говорят, вы большой моралист. Что вы сами об этом думаете?
О.: Моралист я даже очень большой. В сложившейся обстановке много чего нужно делать, но все сидят сложа руки — вот в чем беда. Не знаю, есть ли какая-то возможность действовать, учитывая тупость и дурные намерения властей предержащих. Приходится лезть на стену, чтобы просто указать на это, однако можно ведь облегчить положение. При наличии современных техник все предельно просто. А всего-навсего надо избавиться от трех основных стереотипов, и первый — это нация. Чертите на клочке земли круг и говорите: это граница нашей нации. Затем приходится создать полицию, таможню, армию, а потом возникают стычки с людьми по ту сторону линии. Такова сущность нации, и любая ее форма приведет к тем же результатам. Все усилия ООН приводят лишь к увеличению числа проклятых наций. Далее, второй стереотип: семья. Нации — всего-навсего продолжение семьи. Третий стереотип: собственно метод рождения и репродукции (с этим, наверное, справятся технологии будущего).
В.: А вы довольно далеко смотрите в плане изменений.
О.: Да, приходится быть очень дальновидным — существуют способы избавиться от стереотипа семьи, и китайцы, конечно, уже идут по этому пути. Они единственные, кто подсуетился. Россияне вроде собирались действовать, да так и не собрались. По-прежнему хранят традиции буржуазной семьи.
В.: Что вы имели в виду, написав: «Используя слова и образы определенным способом, можно добиться тишины»?
О.: Пожалуй, в этом я был чересчур оптимистичен. Сомневаюсь, что проблему слов можно решить при помощи самих слов.
В.: Райт Моррис назвал «Голый завтрак» кровоизлиянием воображения. Вы принимаете это за комплимент?
О.: Если честно, я вообще не знаю, как это принимать.
В.: Мне кажется, имеется в виду фатальное кровотечение.
О.: Кровопотеря не обязательно ведет к смерти. Так что, я бы не принял это замечание как комплимент. О чем вы подумали? О кровоизлиянии в мозг? Будто у кого-то в голове оторвался тромб? Нет, я вовсе не принимаю это за комплимент.
В.: Кто такой Райт Моррис?
О.: Понятия не имею, ни разу о нем не слышал.
В.: Вы отходите от концепции послевоенного американского романа, последователи которой даже не знают, что значит воображение. Американские писатели полагают, будто читателю интересны только факты, в самом прямом смысле этого слова. Ваши книги читает вся страна, и они описывают вселенную одновременно и фантастичную, и реальную.
О.: Ну, в принципе так и есть. В настоящее время романы больше похожи на репортажи, и в них авторы пытаются точно описать быт людей. Только это уже не писательство, а именно журнализм. Думаю, писатель должен переработать фактическую информацию, прежде чем выгружать ее в чистом виде на читателя.
В.: Что, по-вашему, отвечает за привязанность американских писателей к материальной действительности?
О.: Хм, ну что ж, в 1930-х выходили романы о социальном сознании, и традиция до сих пор сильна. Идея в том, что роман должен иметь дело с реальностью, с людьми, с конкретными проблемами — в частности, социальными (того или иного рода). Подобные романы, в сущности, не так далеки от творчества Золя. Традиция относительно стара и присуща не только американским писателям.
Читать дальше