В любом случае чтение стало теперь для меня роскошью, позволительной только в отношении нескольких особенных писателей, среди которых Достоевский, Освальд Шпенглер, Эли Фор, Шервуд Андерсон, Рембо, Жионо. Популярных романов и газет не читал никогда, новости меня совершенно не интересовали. Уверен, если будет война или революция, я и так об этом услышу, а остальное меня не волнует. Телевизора и радио у меня не было, а последнее я невзлюбил сразу, как только оно появилось, — изобретение для простаков, недоумков и домохозяек, которым нечем заняться.
И поэтому я читал. Алек впитывал мое чтение как губка. Он отзывался о моих любимых писателях как о «педерастах», в смысле не гомосексуалистах, а просто эксцентричных, слегка повернутых, а то и вовсе сумасшедших. Но для писателя безумие, по его мнению, было нормой. Художнику нужно слегка свихнуться, чтобы выжить в нашем безумном мире. В хорошем настроении он даже снисходил до таких заявлений:
— Знаешь, Генри, думаю, в тебе это есть. Похоже, ты достаточно псих, чтобы сойти за художника. Тебе не хватает только таланта.
Не помню, чтобы ему понравилось хоть что-нибудь из моей писанины.
— Ну, для начала, — сказал он, — ты используешь слишком много сложных слов. Ты это знаешь?
Я знал. Я знал, что он сейчас медленно читает словарь, который содержал около полумиллиона слов. А как он его читал? Он вырывал каждый день новую страницу и засовывал в карман пальто. В метро, в автобусе или поджидая кого-нибудь в офисе, он доставал страничку и изучал ее, обращая внимание не только на значение слова, но и на произношение и происхождение. Поэтому он частенько поправлял меня в употреблении слов и произношении.
Есть такое слово — «апофеоз». Я произносил его с ударение на первое «о», а надо было — на второе. Алек любил ловить меня на ошибках — иногда звонил ни свет ни заря, чтобы спросить, знаю ли я то или иное слово.
Но дело было не только в длинных словах, которые затрудняли ему чтение, мои истории вообще казались ему сухими и скучными. Он посоветовал мне почитать Мопассана или Моэма. Уж они-то знали, как это делается! Он был прав, оба этих писателя — чудесные мастера своего жанра, но я тогда не придавал большого значения умению. Мои любимые писатели пошли гораздо дальше — они творил и… не знаю чем, кишками, наверное, или другим странными частями тела, и их совершенно не волновало, поймет кто-нибудь или нет. Они адресовали свои произведения элите, и странно, что при этом умудрялись достучаться не только до равных себе, но и до безумцев вроде меня и даже до мало читающих простаков. Но вообще-то они, конечно, писали для собственного удовольствия. Им не нужно было соответствовать чьим-то запросам — ни тебе начальника, ни тебе стабильного дохода, да и узнают о твоем гении в лучшем случае лет через пятьдесят.
Алек не мог понять, как можно мириться с такой отсрочкой. Ему нужны были результаты — и быстро. Художник вроде Ван Гога, который за всю свою жизнь не продал ни одной картины, был, по мнению Алека, не столько гением, сколько простофилей. Мог бы рисовать планы домов или дорожные знаки, вместо того чтобы нахлебничать у брата. И все же Алека такие люди привлекали: он просто бредил книгой Моэма о Гогене — «Луна и грош». Ему даже нравилась идея Гогена оставить прибыльную работенку и жену, чтобы поехать на Таити и там рисовать.
— Вот что может случиться однажды с тобой, — говорил он. — Так и вижу, как ты собираешь свои пожитки и укатываешь в Гималаи.
Мою любовь к Азии и азиатам он не понимал вовсе. В свое оправдание я приводил другие примеры привязанности к Востоку: Лафкадио Херн из Нью-Орлеана, чьи истории ему нравились, когда-то уехал в Японию, где женился на японке и написал большую часть своих произведений.
— Да, Ген, — соглашался Алек, — но не забывай, что сам Херн был наполовину грек, наполовину ирландец. Это тебе не среднестатистический американец.
Я спорил, приводил в пример Марко Поло и других путешественников, но Алека это не вдохновляло.
— Ты любишь каких-то сдвинутых эксцентриков, — сказал он.
Несмотря на скепсис, мой друг все же был очень ко мне привязан. Я думаю, он втайне сожалел, что сам такой «обычный» и «среднестатистический», хотя мало кто из наших знакомых решился бы на такие эпитеты в его адрес.
Конечно, одевался он самым обычным образом. Ну разве что неряшливо и не очень чисто… (Он приклеивал записки на зеркало перед раковиной с напоминанием самому себе вымыть все тело, а не только руки и лицо.) Он то и дело просил меня подойти и понюхать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
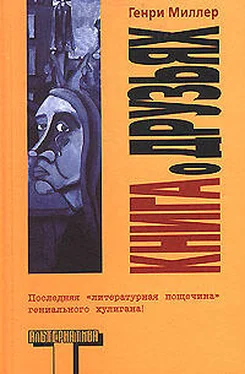






![Генри Миллер - Мудрость сердца [сборник]](/books/423531/genri-miller-mudrost-serdca-sbornik-thumb.webp)
![Генри Миллер - Замри, как колибри [сборник]](/books/423532/genri-miller-zamri-kak-kolibri-sbornik-thumb.webp)
