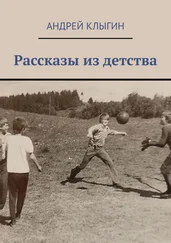Но я предал сестер. Проклятие мне. Никто не почешет мне спину в раю. Прости меня, богиня правосудия Маат, я не был негодяем, я был глупцом.
Я уехал автостопом в Питер. За два дня до курантов, уже водрузив на верхушку несчастной хвои крупный стеклянный фаллос, я подло сбежал в Ленинград. С Маленьким Джимом. Зачем? Черт знает. Мы стояли в Трубе, докуривали последнюю сигарету «Явы», было тошно, шел снег, не такой крупный и тихий, но достаточный для волшебного варева тротуарной каши, мы докурили и поехали в Питер… Черт знает.
На Петроградской стороне, на флэту Боба Ширяева, прислонившийся спиной к включенному телевизору, Свин проникновенно исполнял уличный романс, посвященный «жабам». За его спиной кривлялись черно-белые деятели советской эстрады. Жабы пахли губной помадой, мужчины пахли анашой. Соседи жарили котлеты с луком. Костя Махалов приволок картонный короб с токайским вином, а мне даже не взгрустнулось… Хотя «циклодол» давно закончился, а алкоголиком я еще не стал. Тоже сыпался нервный балтийский снежок, Гольфстрим притащил тепло из Мексиканского залива, и этого тепла досталось даже городу Ленина, хоть он того и не всегда достоин, город Ленина. Потом мы ехали в метро туда, где обитал Димон Крыса, и Джим упал на рельсы, но выбрался, смеясь, хотя, выпав из окна десять лет спустя, он уже не выбрался… А может, все неизвестно слабым людям, может быть это мы еще не выбрались… Это слишком скушно — размышлять о неведомом, когда душа наполнена отчаяньем о погибшей вселенной. Ничего не осталось. Космос нем. Частицы черного липнут к новым, едва зарождающимся солнцам уже совсем другой вселенной. Никого нет, ничего нет… а я вспоминаю безымянных сестер и грущу. Почему же так подло обошлась со мной память…
Я не писатель. Поэтому я не в силах передать этот запах, это удушье, вцепившееся в мою одежду, в мои волосы. Запах, пропитавший кожу, проникший в кровь и застрявший острым каменным осколком в правом виске.
Это запах тюрьмы.
Его невозможно спутать ни с какими иными запахами. Невозможно, потому что нет в человеческой вселенной другого места, даже самого гиблого, где замешались бы и сгустились людские страдания, потери, окоченевшие надежды, смрад параши, зависть, собачьи слюни, кислая вонь баланды, слёзы и пот. И всё это вместе, и ещё многое и многое, связанное с каждым арестантом, и есть этот адский, ни с чем не сравнимый запах тюремных централов.
Когда я был слеп и ещё пытался найти подходящее объяснение своему пути, то выдумал теорию. Будто бы этот запах, осевший в самых глубоких ямах сознания, подобно наркотику, вынуждает человека совершать всё новые и новые преступления, чтобы опять привести свою жертву за решётку и насытить сполна.
Может быть.
Может быть, этот запах и есть материализация того ужаса, которому нет имени и который ошибочно называют дьяволом. Или это множество ангелов — чистильщиков, пожирающих наши неосуществлённые возможности. Я не знаю. Я не поэт, чтобы угадывать.
Если душа бессмертна, а бытиё бесконечно, то все наши земные манипуляции лишены смысла. Зачем нам знания, зачем предприимчивость, зачем доброта и злоба, неудачи и выигрыши, зачем, если всё это лишь ничтожный отрезок бесконечного пути?
Но если мы действительно смертны и в час оно наша белковая колония рассыпается на множество самостоятельных микрочастиц, то и в этом случае жизнь лишена смысла. Только короткая память близких родственников, которая скоро пройдет. Только вздох и распитая бутылка белой.
Ничтожество, если вдуматься. И Кант, и Гегель, и Хайдеггер — микробы космоса. И жизнь — просто способ существования белковых тел. Энгельс, кажется.
— Стасик! Стасик, твою бабушку!
Юноша с прогнившими от героина зубами и со скользким лживым взором просунул голову между занавесей, отделяющих меня от камеры, и скорчился в улыбке.
— Чё, Дрон?
— Стасик, завтра я еду на суд. Разбуди меня ровно в пять. Понял? Не забудь. В пять. Не когда закажут, а ровно в пять.
— Понял, понял.
Шторка задёрнулась. Там, за плотной простынёй, копошилась ночная камерная жизнь. Тысячи различных звуков: голоса, шептания, бурчанье телевизора, постукивание ложек, журчание крана, крики за решёткой, лязг замков. Я слышал всё это одновременно. Бытовая бутырская какофония текла в уши, затекала в мозг и мешала заснуть.
Ворочаюсь, ворочаюсь, ворочаюсь.
Завтра суд.
Да пошёл он…
Всё равно будет так, как обычно — как никто не может предположить. Никто. И уж тем более я сам. Так случается с теми, кто привык к неожиданностям, когда из ряда вон выходящее становится обычным явлением.
Читать дальше