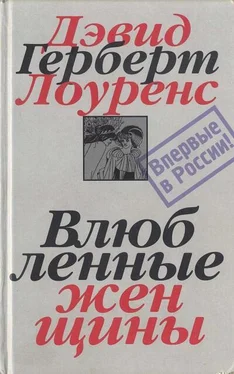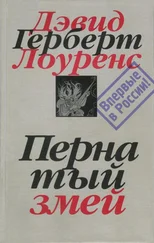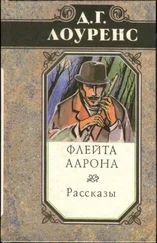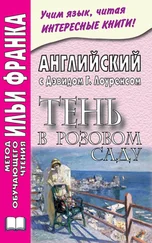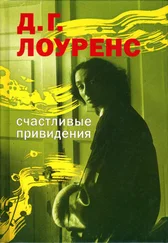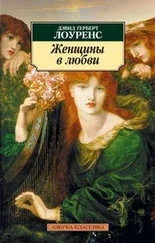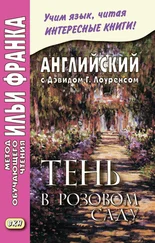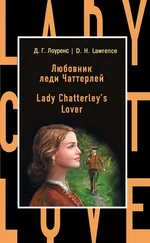Давайте наконец не колеблясь признаем, что страсти и тайны чувственности столь же святы, сколь и страсти и тайны духовности. Кто ныне решится сказать, что это не так? Единственное, с чем невозможно смириться, — это деградация, проституирование живущих в нас тайн. Необходимо всего лишь, чтобы человек вгляделся в собственное „я“ с глубоким уважением, даже с благоговением ко всему, что таит в себе творящая душа, эта божья тайна, живущая внутри нас. Тогда все мы обретем выздоровление и свободу. Похоть ненавистна именно потому, что ущемляет целостность нашей натуры и наше гордое „я“. <���…>
Этот роман — всего лишь воплощение внутренних борений автора, его устремлений и желаний; одним словом, хроника его глубочайших душевных переживаний. Ничто, что исходит из глубочайших недр страстной души, не является и не может быть дурным. А потому здесь нет места и самооправданию — разве что по отношению к душе, коль скоро она невольно умалена. <���…>
Ныне мы переживаем кризис. Каждый, кто по-настоящему жив, испытывает неподдельные душевные борения. Победителями из этих испытаний выйдут те, кто способен пробудиться к новой страсти, к новой идее. Прочие, насмерть приникшие к старой идее, сгинут, ибо новая жизнь не зародится в их душах. Люди должны заговорить друг с другом» [217] D. H. Lawrence. Phoenix II. Lnd, Heinemann, 1968, рр. 275–276.
.
Страстный гуманистический призыв к разрыву порочного крута отчуждения — этого главного «антигероя» всего лоуренсовского творчества — по большому счету не был услышан современниками.
Тон критическим отзывам о новом романе писателя оказался задан отчетливо негативной рецензией Джона Мидлтона Маррея, который, ополчаясь на яростные диатрибы в адрес современной цивилизации одного из главных героев «Влюбленных женщин» Руперта Беркина (которого он, не вполне правомерно, отождествил с самим Д. Г. Лоуренсом), по сути отказал романисту в художественном даровании как таковом.
«„Влюбленные женщины“, — писал он на страницах „Нейшн энд Атенеум“ в августе 1921 года, — не что иное, как пятьсот страниц яростного гнева, волна за волной натужного, напыщенного письма, устремляющегося к дальней и невидимой цели, не стихающего прибоя какого-то темного и недоступного океана, бушующего в подземном мире, населенном созданиями, опознаваемыми лишь по тому, как они, влекомые сексуальным притяжением друг к другу, непрестанно извиваются, как проклятые. Их создатель убежден, что судороги одного явственно отличимы от судорог другого; страница за страницей он описывает, как извиваются первый, второй, третий, четвертый. В его глазах каждый из них обладает несомненной и глубокой индивидуальностью; в наших же — все они на одно лицо. <���…> Нам абсолютно безразличен их жребий; они утомили нас до смерти» [218] Цит. по: The Rainbow and Women in Love. A Casebook. Lnd, 1969, p. 68.
.
«Так кто же м-р Лоуренс: фанатик или пророк? — подводит читателя к окончательному выводу рецензент. — То, что он не художник, столь же очевидно, как и то, что у него нет стремления быть таковым; ибо что бы ни таил в себе тот „глубинный физический разум“, выражающий свою удовлетворенность „бездумной невидимой улыбкой“, независимо от того, существует он или нет, абсолютно ясно, что не им определяется человеческая индивидуальность, как мы ее понимаем. Нет сомнения в том, что м-р Лоуренс тщится приобщить нас и к новому пониманию индивидуальности; сегодня, однако, нам не остается ничего другого, как оперировать теми понятиями и ощущениями, какими мы располагаем. А с их помощью мы… не в состоянии идентифицировать в обитателях созданного м-ром Лоуренсом мира какую бы то ни было индивидуальность. Как минимум можно было ожидать, что мы окажемся способны провести в нем разграничение между мужским и женским. Так нет же! Достаточно убрать имена, выкинуть из повествования утомительное перечисление случайных предметов одежды… — и мужчины и женщины окажутся так же неразличимы, как осьминоги в аквариуме» [219] Ibid, рр. 69–70.
.
Как показало дальнейшее, яростное неприятие Дж. М. Марреем буквы и духа лоуренсовского новаторства (действительно беспрецедентного на фоне тогдашней английской прозы) имело не только эстетико-мировоззренческие, но и чисто биографические истоки. В вышедшей спустя год после смерти Д. Г. Лоуренса мемуарной книге «Сын женщины» последний, в духе характерного для него вульгарного фрейдизма интерпретируя творчество романиста (исчерпывающе красноречив хотя бы его отзыв о «Радуге» как «истории фиаско Д. Г. Лоуренса в сфере сексуальных отношений» [220] Цит. по: D. H. Lawrence. The Rainbow and Women in Love. A Casebook. Lnd., 1969, p. 74.
), детально останавливается на особенно мучительном для писателя 1916 годе — времени, которое Д. Г. Лоуренс вместе с Фридой проводит в Корнуолле, терзаемый постоянной тревогой за жизнь ее детей, остающихся в Германии, опасениями в связи с возможной мобилизацией и связанной с цензурным запретом «Радуги» неуверенностью в собственном профессиональном будущем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу