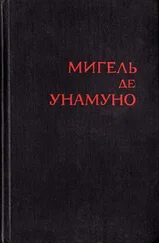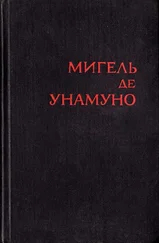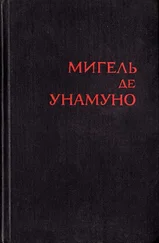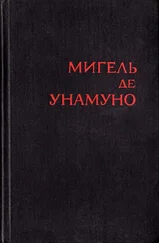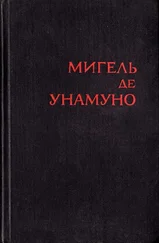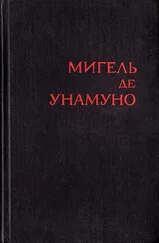— Какой ужас! И почему же?
— Откуда я знаю?.. Видно, они казались ему красивее, лучше…
— Вроде как Карвахаль, который не переносит даже вида своей младшей дочери…
— Это потому, что она родилась поздно, через шесть лет после предыдущей, когда дела его пошатнулись. И вот вдруг новая обуза, да к тому же еще и неожиданная. Поэтому-то ее и называют втирушей.
— Боже, какой ужас!
— Такова жизнь, Антония, рассадник всевозможных ужасов. Так восславим господа, что он ниспослал нам только одного ребенка.
— Замолчи!
— Заставь меня замолчать.
И она заставила его замолчать.
Сын Авеля пошел по медицинской части, и отец его часто рассказывал Хоакину об успехах молодого человека. Иногда беседовал Хоакин и с самим юношей и даже проникся к нему известной симпатией: настолько ничтожным показался ему этот юноша.
— И как это ты решил пустить его по медицине, а не приохотил к живописи? — спросил он Авеля.

— Не я решил пустить его по медицине, он сам этого захотел. К искусству у него нет склонности.
— Понятно, для занятий медициной, конечно, не требуется никакой склонности…
— Я этого не сказал. Уж больно ты любишь все выворачивать наизнанку. К живописи у него нет не только склонности, но даже простого любопытства. Хорошо, если он на секунду задержится, чтобы хоть краешком глаза взглянуть на мою работу. Он даже не спрашивает, над чем я работаю.
— А может, это и лучше, что он не интересуется живописью…
— Почему?
— Представь себе, что он занялся живописью, и тогда одно из двух: или он будет писать лучше тебя, или хуже. Если хуже, то это значит быть Авелем Санчесом-сыном, которого все будут называть Авелем Санчесом Плохим, или просто Санчесом Плохим, или, наконец, Авелем Плохим. А ведь согласись, что попасть в такое положение и в самом деле не слишком приятно…
— А если бы он превзошел меня?
— Тогда бы ты этого не потерпел.
— Не нужно мерить на свой аршин.
— Кому-кому, а мне-то уж не рассказывай эти бредни. Ни один художник не переносит славы другого, особенно когда дело касается сына или брата. Уж лучше пусть это будет посторонний. Одна мысль о том, что кто-то твоей же собственной крови превосходит тебя… Только не это! Чем это объяснить? Нет, ты разумно сделал, что пустил его по медицинской части.
Да, пожалуй, это и выгоднее в смысле денег.
— Уж не хочешь ли ты меня уверить, что живопись тебя плохо кормит?
— Да нет, кое-что она, конечно, дает.
— А славу ты ни в грош не ставишь?
Славу? Пока она держится…
— Деньги еще меньше держатся.
— Но все же они надежнее.
— Брось комедию ломать, Авель, не прикидывайся безразличным к славе.
— Даю тебе слово, что сейчас меня заботит одно — оставить сыну наследство.
— Ты оставишь ему громкое имя.
— В наше время это небольшая ценность.
— Твое имя — ценность!
— Моя подпись, пожалуй… Санчес! Хорошо еще, что не надо подписываться Авель С. Пуиг! — чтобы все принимали его за маркиза из дома Санчесов. Да и, кроме того, имя Авель снимает двусмысленность с фамилии Санчес, Авель Санчес — звучит неплохо.
Стремясь бежать от самого себя, изгнать из своих мыслей вечно присутствовавшего в них Авеля и тем самым освободить свое сознание от всего мучительного и больного, что было в нем, Хоакин зачастил в одну компанию, постоянно собиравшуюся в казино. Ему казалось, что царившая там атмосфера беспечности и непринужденной беседы послужит ему чем-то вроде наркотика, будет пьянить его. Разве не бывает людей, которые в вине ищут забвения от иссушающей страсти, топят в нем безнадежную любовь? Вот и он, Хоакин, решил потопить свою страсть в застольных разговорах, предпочитая, правда, больше слушать, чем принимать в них активное участие. Но оказалось, что лекарство было хуже самой болезни.
Шел он туда всегда с твердой решимостью не давать воли скверному настроению, смеяться, шутить, словно невзначай вставлять свои замечания, разыгрывать незаинтересованного стороннего наблюдателя жизни, добродушного, как и всякий профессиональный скептик, и вполне согласного с тем, что понимать — это и значит прощать; во всяком случае, Хоакин собирался и виду не подавать, что душу и волю его подтачивает рак. И тем не менее болезнь срывалась, можно сказать, у него прямо с языка, она обнаруживалась в словах его в момент, когда этого меньше всего можно было бы ожидать, и все присутствующие мигом улавливали в них гнилостный запах тяжелого недуга. А Хоакин возвращался домой раздраженный самим собою, упрекая себя в трусости, в неумении владеть собой и решая, что никогда в жизни он больше не пойдет в эту компанию. «Нет, — твердил себе Хоакин, — нет, больше я туда ни ногой, я не должен туда ходить; эти разговоры только ухудшают мое самочувствие, заставляют больше страдать, подливают масла в огонь. Атмосфера там ядовитая, насквозь пропитанная всякими темными страстями и страстишками; нет, эти сборища не для меня! Единственно в чем я нуждаюсь — это в одиночестве, и только в одиночестве! Благодатном одиночестве!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу