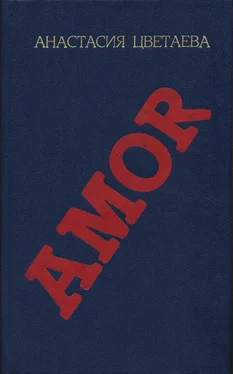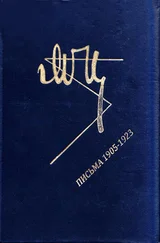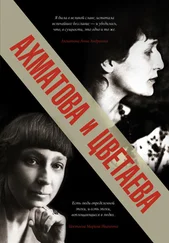Мориц сегодня как выпил вина. Он чувствует, в нем какая‑то воздушность впечатлений – как будто все за стеклом сияет‑слоится, воспоминания остры. Но вспоминаешь не то, что надо для рассказа, а – рядом. Волны качаются вокруг парохода – и этого никак не расскажешь… Немного качало, но ведь его не укачивает, а любопытно быть совершенно здоровым среди больных (как выпив вина – среди трезвых). Чувство своего превосходства, привычного, не оставляет его ни в том, ни в другом случае. Он садится к огню. И начинает говорить об Америке.
– Начать с того, что я едва не опоздал на пароход. Вы, Ника, Париж помните. В детстве были? Надо было ехать от Сан–Лазар, отель Шамбор. Конечно, компания никогда не сделала бы такую вещь, чтобы ваш билет пропал, – но если опоздать, то надо ждать следующего парохода, – а какой будет следующий пароход? "Маджестик" – самый крупный океанский пароход, пятьдесят пять тысяч тонн. Я, как сумасшедший, кинулся с лестницы. А по её бокам – шпалерами – челядь: горничные, мальчики в ливреях, – вы это знаете! – Он дружески кивнул Нике. – И надо всем совать в руку – я это ненавижу! (Он содрогнулся, смеясь.) И когда я сел в такси – единственное, что я мог сказать шоферу: "Вам срок семь минут до вокзала!" (Вы знаете это неорганизованное, отвратительное парижское движение – пробки, узкие улочки, немыслимо запруженные площади…) Этот человек избрал невероятную дорогу глухими переулками; только один раз мы пересекли шумную уличную артерию, чуть не налетели на другое такси – последовала отборная парижская брань – снова улочки – и шофер домчал!
Поза, лицо Морица – словно он проснулся, из яви ещё раз в явь, ещё более явную, городской человек! Страстный любитель городов Европы, всего самого последнего, самого острого, азарт, риск, игра – вот что было центром этого человека! И все‑таки Нике за себя сейчас стыдно – за то, что он её так взволновал рассказом об этой гонке: при победных словах – и шофер домчал! – в горле, как в детстве, – судорога (ещё миг – и к глазам – слезы?). В том, что никто не мог так пережить эту гонку, только они оба, было их наедине среди людей в комнате, как будто они вместе мчатся сейчас по Парижу – его обращение к ней, он её избрал себе в спутники! Ника боится взглянуть на Морица, потому что он может – понять.
– Я не помню, как мы выбежали на перрон… (искрами звуков григовских – Морицев озноб выбеганья к экспрессу).
– Носильщик кидал вещи уже в окно! Я не мог сразу опомниться от той гонки.
– А как вы простились с шофером? – спрашивает Ника.
– Простились?! Ну, тут было не до прощания – я кинул ему бумажку – раз в десять больше, чем полагалось, – Мориц закурил и кинул, как ту бумажку, – спичку, затянулся и, выпустив дым: – "Маджестик" останавливался на рейде в километрах двух–трех от берега. Он стоял, как гигантский жук, светящийся, и к нему надо было доезжать на специальном пароходе, большом, как черноморский. Любопытно, что пассажиры первого класса занимали места в первую очередь. И для них был особый пароход. У меня как раз, в силу моей должности, был билет первого класса. Трапа не было: широкие ворота, мостик прямо с палубы судна. Причем вас ждала вся команда, во главе со старшим офицером в парадной форме. Когда я проснулся, – мы были уже в открытом океане, – Мориц вытянул ноги к огню, – о пароходе рассказывать не стоит, я думаю?
Но Виктор, конторщики, даже Евгений Евгеньевич, попросили.
– На пароходе выходит своя газета, огромный зал для всевозможных игр, свое кино, бассейн для плавания, – отдельный сухопутный мирок посреди океана. Ресторан – выше похвалы. Мне понравился виночерпий – точно со страниц Вальтер Скотта. Стюарды – официанты, что ли, дворецкие, есть – ресторанные, каютные. Нас с товарищем обслуживал отдельный стюард, он других не знал. По этому одному уже можно судить о масштабе "Маджестика". Самый главный, старший над всеми, носил на груди вот такую серебряную цепь – истый англосакс! Статный, строгий, с ледяными синими глазами – картина! Я мало пью. Но мой товарищ пил много. Были исключительные вина. Но ему скоро пришлось прекратить это дело, потому что оно очень дорого стоило. Я не могу простить ему, – сказал Мориц, наклоняясь к дверце печки, пытаясь закурить от уголька (рука, охватываемая жаром всей червонной печной шкатулки, не могла достичь и продержаться близ огня; Мориц откатил уголек на край печки и закурил; колено на миг коснулось пола – от этого скользнувшего коленопреклонения сжалось Никино сердце, – сел в кресло, как сидел на палубе "Маджестика"), – не могу простить ему, хотя он уже в земле, что он не дал мне вкусить одно удивительное удовольствие: на верхней палубе – сандек – вас укладывают на чудесной шезлонге, и вы, лежа, смотрите на волны. Он не хотел лежать, и поэтому я с ним вместе ходил и ходил по палубе километров, вероятно, по двадцать, как заводные манекены.
Читать дальше