— Я васъ такъ ждала тогда… А вы сидѣли надъ вашей жестью… Теперь ужъ поздно… Я не любя любила — какъ вещь.
И очень тихо — себѣ, послѣ телефона — нѣть, ему — онъ могъ бы быть отцомъ — онъ не быль — съ нѣжностью отчаянья — едва:
— Я вся въ другомъ… Я жду ребенка…
Ребенка? Сына Витріона? Бѣловъ встаетъ, чумѣя. Притоптываетъ. Чтобъ себя добить:
— Когда это случилось?
— Въ тотъ вечеръ. Вы бросили, заболѣли. Мы отнесли его вдвоемъ. И онъ остался.
Не слышитъ. По бульварамъ. Бѣжитъ кольцомъ. Здѣсь долженъ былъ идти другой, дивить и наводить порядокъ. Взлѣзаетъ на бесѣдку, гдѣ когда-то солдаты играли попурри, а теперь заходятъ по простымъ дѣламъ. Вѣщаетъ:
— Родъ Витріоновъ продленъ!
У Никитскихъ кидается на мотоциклетку, прислонившуюся въ изнеможденіи къ стѣнѣ:
— Стрекочешь? Дышишь? Сыночекъ!
Мотоциклетка — реввоенсовѣта. И вообще безобразить нельзя. Въ сына никто не вѣритъ. Темнота. Обида. Чужія руки, клещи, углы и долгая мучительная тряска по всѣмъ горбамъ московскихъ мостовыхъ. Подъемъ, кружится голова. На земь. Прощай любовь! Уже поздно. Холодное, замученное темя. Половицы крашеныя. Тишина.
Дней нѣть — есть день. Бѣловъ дѣвически застѣнчивъ, мудръ и кротокъ. Даже Федотова, самая злая сидѣлка, его порой съ ложки кормитъ пшеннымъ отваромъ. Онъ самъ не ѣстъ. Понимаетъ — надо, но забываетъ. Только взялъ миску — ужъ сонъ, и гудъ, и мелкія мурашки. П а ромъ подымается.
Сначала онъ томился. Ласкалъ шары отъ клумбъ, звоночекъ, кружку и всякую пустую, завалящуюся вещь. Все это — дѣти. Къ груди подносилъ, баюкалъ, звалъ Витеньками и надъ каждой трещиной немало горевалъ, какъ мать надъ дѣтской хворью. И рвался въ міръ, гдѣ вещи ходятъ, вертятся, растутъ, гдѣ безусловно по ночамъ отъ Страстного и вкругъ по всѣмъ бульварамъ проходятъ караваны дисковъ и угловъ.
Теперь спокоенъ. Отъ ясности колѣни гладитъ и щуритъ слегка глаза. Онъ — патріархъ, родоначальникъ тысячи колѣнъ, великій извлеченный корень. Впервые присмотрѣлся къ людямъ — увидалъ — всѣ — дѣти Витріона, только въ глупыхъ, мягкихъ маскахъ. Не тѣло — жесть нагрѣтая до пота. Шагъ. Пол-оборота. Спокойно. Сонъ. Скрежетъ. Скребъ. Смерть.
Глядитъ въ окошко на Москву: крыши, трубы, дымъ, суета. Прекрасное гнѣздо изъ жести. По вечерамъ онъ слышитъ — дребезжитъ и кружится, и плачетъ большое сердце изъ стекла.
Сейчасъ тепло. Темнѣетъ. Бѣловъ считаетъ трубы: четырнадцать, семнадцать. Дальше трудно. А прошлое свое — пустырь и домъ на сломъ. Рѣдко, рѣдко изъ кирпичнаго желудка вѣтеръ выхлестнетъ лоскутъ обоевъ — дѣтская, китаецъ сквозь сѣтку — другой лоскутъ — зеленый. Тепло. И Бѣловъ радъ. Радъ, что родилъ большое жестяное племя. И больше радъ еще, что онъ не съ нимъ, а здѣсь, на койкѣ у окна. Нахлынула густая теплота, отъ живота земли. Зеленый лоскутокъ и волосы въ сторону, водометомъ.
Безпорядокъ. Тамъ міръ и Витріонъ. Еще — любовь. Письмо было ему. И это небо, будто въ дыркѣ — тамъ. Бѣловъ встаетъ и безконечно нѣжно, какъ золотые пролетавшіе жуки, жужжитъ:
— Дзунъ. Дзунъ.
И выше, паромъ, — въ окно.
А если послѣ внизъ — любовь не шаръ. Забытая летитъ, а торжествующая камнемъ падаетъ на землю. Ей можно все.
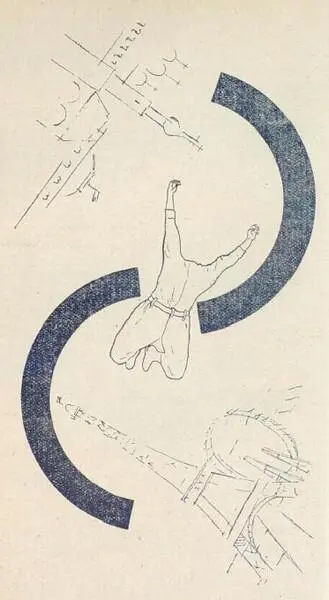
Сначала все шло хорошо. Говорили на разныхъ языкахъ. Тряска. Гулъ. Нѣмецкое глухое «hа». Кофе. Копоть. На площадкахъ гудъ. Пріятная тоска. Сначала — міръ.
Теперь — Россія. Станція «Ивашино». Поѣздъ, пометавшись — стать или не стать — замеръ. Поль-Луи взлетѣлъ на койкѣ, распахнулъ свой лѣвый глазъ. Показалось — губастый негръ смѣясь ударилъ въ джазъ-бандъ. Гонгъ. Свѣтъ. Горячія плясуньи — звуки — буквы влетѣли въ ротъ. Огонь. Залить!
— Гарсонъ! Шерри-коблеръ!
Пусто. Буквы растутъ, бухнутъ. На вагонѣ пять вспухшихъ буквъ: Р. С. Ф. С. Р.
И дикій рыкъ:
— Куды?
Поль-Луи — къ окошку. У вагона баба въ тулупѣ. Разрослась отъ узловъ, мѣшковъ. Тѣсто въ мѣху. И копошится, всходитъ. Лицо лиловое — сирень.
— Куды ты прешь? Здѣсь знаешь кто? Дипломатическій! А дальше — делегатскій! А тамъ штабной! Иди! Иди!
Тѣсто растетъ. Въ грудь кулакомъ. Присѣла. Растеклась. Кудахтнула:
— Сопачъ! Иродъ! Вѣдь яйца…
Паровозъ насмѣшливо фыркнулъ. Бабки, буквы, будки — провалились. Остался снѣгъ. Поль-Луи глядитъ. Страшно. Конечно, онъ въ Парижѣ видѣлъ… Но тамъ летитъ и нѣть его. Конфетти. А здѣсь — большой, сухой, тяжелый. Даже не лежитъ — ползетъ. Сейчасъ зацѣпитъ поѣздъ, подрумянивъ — глотнетъ. Вѣдь онъ высокій — съ домъ. А можетъ быть подъ снѣгомъ уже лежитъ второй дипломатическій вагонъ, со шторкой, съ Поль-Луи: въ лѣвомъ карманѣ паспортъ, визы, билетъ корреспондентскій, марки, карточка брюнетки съ чолкой до бровей. А глубже подъ карманомъ зудъ и ужасъ:
Читать дальше
![Илья Эренбург Шесть повестей о легких концах [старая орфография] обложка книги](/books/427643/ilya-erenburg-shest-povestej-o-legkih-koncah-star-cover.webp)
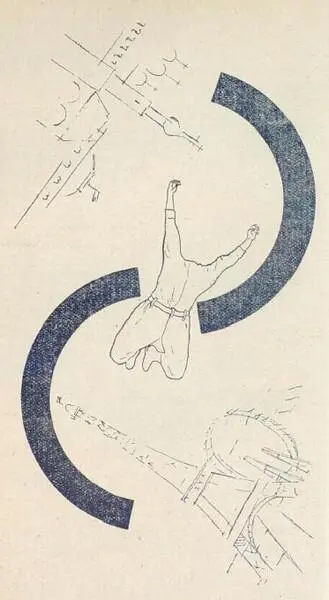
![Поль Тальман - Езда в остров Любви [старая орфография]](/books/31433/pol-talman-ezda-v-ostrov-lyubvi-staraya-orfografi-thumb.webp)
![Всеволод Соловьев - Злые вихри [Старая орфография]](/books/34953/vsevolod-solovev-zlye-vihri-staraya-orfografiya-thumb.webp)
![Аркадий Аверченко - Записки театральной крысы [старая орфография]](/books/157931/arkadij-averchenko-zapiski-teatralnoj-krysy-stara-thumb.webp)

![Владимир Богораз - Собраніе сочиненій В. Г. Тана. Томъ десятый. Стихотворенія [Старая орфография]](/books/393682/vladimir-bogoraz-sobranІe-sochinenІj-v-g-tana-to-thumb.webp)
![Владимир Герье - Французская революція 1789-95 г. въ освѣщеніи И. Тэна. [Старая орфография]](/books/394262/vladimir-gere-francuzskaya-revolyucІya-1789-thumb.webp)
![Владимир Богораз - Сказаніе объ Эле́нди и его сыновьяхъ [Старая орфография]](/books/396328/vladimir-bogoraz-skazanІe-ob-ele-ndi-i-ego-synov-thumb.webp)
![Владимир Богораз - Чукотскіе разсказы [Старая орфография]](/books/398246/vladimir-bogoraz-chukotskІe-razskazy-staraya-orfogr-thumb.webp)
![Владимир Богораз - Собраніе сочиненій В. Г. Тана. Томъ шестой. За океаномъ [Старая орфография]](/books/398782/vladimir-bogoraz-sobranІe-sochinenІj-v-g-tana-to-thumb.webp)
![Владимир Богораз - Собраніе сочиненій В. Г. Тана. Томъ пятый. Американскіе разсказы [Старая орфография]](/books/399133/vladimir-bogoraz-sobranІe-sochinenІj-v-g-tana-to-thumb.webp)

![Илья Эренбург - Золотое сердце. Ветер [старая орфография]](/books/427914/ilya-erenburg-zolotoe-serdce-veter-staraya-orfogr-thumb.webp)