— Нравится.
Вскоре после этого они ушли. Визиту следовало быть недолгим, чтобы выздоравливающий не утомлялся. Они шли обратно, не скрывая надежды и удовлетворения. У ворот уже стояло несколько посетителей, ждавших трамвая. Так как на мосту его не было, отец и дочь стали прохаживаться вдоль фасада лечебницы. На полпути они встретили старуху-негритянку, которая плакала, прислонившись к ограде. Добряк Колеони подошел к ней:
— Что с тобой, бабушка?
Несчастная медленно перевела на него кроткий взгляд своих заплаканных глаз, полный неизбывной тоски, и заговорила:
— Ах, сеньор! Какая печаль! Мой сын, такой славный мальчик… Бедняжка!
И зарыдала снова. Колеони растрогался. Дочь с сочувствием посмотрела на нее и через мгновение спросила:
— Он умер?
— Лучше бы он умер, сеньорита.
Между слезами и всхлипами она рассказала, что ее сын больше не узнает ее и не отвечает на вопросы, словно чужой человек. Вытерев слезы, она заключила:
— Что ж, дело сделано.
Колеони с дочерью ушли печальные, унося с собой частицу ее скорби, пропитанной слезами.
День был прохладным; начинал задувать бриз, и на море появились белые барашки. Гора Сахарная Голова возвышалась — черная, неподвижная, торжественная — над пенными волнами и как будто делала слегка пасмурным совершенно ясный день.
В Институте слепых играли на гитаре; медленные, надрывные звуки инструмента, казалось, были порождением всей этой печали и всей этой торжественности.
Трамвай все не приходил. Наконец, он подъехал, отец и дочь сели в него и вышли на площади Кариока. Приятно видеть город в выходной день: магазины закрыты, узкие улицы пустынны, шаги гулко отдаются, словно идешь по тихому монастырскому двору. Город словно разлагается до скелета, исчезает его плоть — оживление, движение телег, карет и людей. Кое-где перед лавками играют дочери торговцев — катаются на велосипедах, кидают мяч, и от этого еще резче обозначается разница с предыдущим днем.
Обычая выбираться на прогулки в живописные места за городом тогда не существовало, и по дороге им попадались лишь супружеские пары, торопившиеся навестить кого-нибудь — так же, как с недавних пор они сами. Площадь Сан-Франсиско была безлюдна; статуя посреди скверика, теперь уже исчезнувшего, казалась простым садовым украшением. Полупустые трамваи лениво въезжали на площадь. Колеони с дочерью сели в тот, который шел к дому Куарезмы. Близился вечер, и в окнах уже мелькали горожане в воскресных нарядах — негритянки в светлых платьях, с сигарами или папиросами с руке, группы разносчиков с невероятно яркими цветами; девушки в сильно накрахмаленных муслиновых одеяниях; мужчины в допотопных цилиндрах, и рядом с ними — матроны-домоседки в тяжелых атласных облачениях на тучных телах. Итак, воскресный день был отмечен скромностью простонародья, богатством бедняков и хвастовством глупцов.
Госпожа Аделаида была не одна: она беседовала с Рикардо. Когда кум ее брата постучался в дверь, музыкант рассказывал старой сеньоре о своем последнем триумфе:
— Не знаю, как быть, госпожа Аделаида. Я не записываю свою музыку, не сохраняю нот — кошмар!
У него возникли трудности. Господин Паисандон из аргентинской Кордовы, весьма известный в своем городе литератор, написал ему письмо с просьбой прислать образцы музыки и стихов. Рикардо пришел в замешательство: стихи существовали на бумаге, но музыка — нет. Правда, он знал ее наизусть, однако сесть и записать мелодию было выше его сил.
— Черт возьми! — негодовал он. — Это не по мне. И дело в том, что мы упускаем шанс рассказать иностранцам о нашей стране.
Пожилую сестру Куарезмы мало интересовала игра на гитаре. Она с детства привыкла видеть этот инструмент в руках рабов и всяких простолюдинов, и поэтому не могла себе представить, что он способен привлечь внимание людей с известным положением в обществе. Но в силу своей деликатности она молча переносила увлечение Рикардо, тем более что известный трубадур из предместья начинал вызывать у нее уважение. Это уважение родилось из преданности, которую тот проявил после начала их семейной драмы. Все мелкие услуги и дела, хождение за тем и другим, — все это взял на себя Рикардо, проявив охоту и усердие.
Сейчас он хлопотал об отставке своего бывшего ученика. Это было непросто — «закрыть отставку», говоря бюрократическим языком. После торжественного оформления отставки в виде указа бумага должна еще пройти через десяток отделов и служащих, чтобы дело завершилось. Нет ничего серьезнее серьезности чиновника, говорящего нам: «Мне нужно все посчитать». «Все» тянется с месяц, а то и дольше, словно речь идет о небесной механике. Колеони был доверенным лицом майора, но он ничего не понимал в официальных делах и передал эту часть обязанностей Корасао дуз Отрусу.
Читать дальше
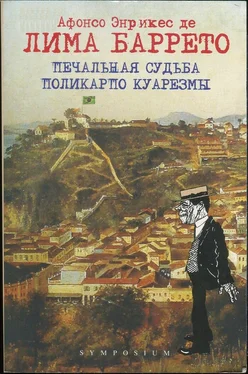
![Олег Рой - Самая печальная картина на свете [с цветными иллюстрациями]](/books/33888/oleg-roj-samaya-pechalnaya-kartina-na-svete-s-cvetn-thumb.webp)






