Она ничем не показывала, что веселье этих двоих кажется ей бесстыдным и враждебным, но насмешки сестры, постоянно говорившей: «Веселись, Исмения! Он далеко, пользуйся этим!» — приводили ее в бешенство, страшное бешенство слабого человека, разъедающее его изнутри, ибо оно неспособно привести к взрыву.
Чтобы отогнать дурные мысли, она стала смотреть на беззаботно украшенную улицу, с разноцветными бумажками и серпантином всех цветов радуги, свисающим с балконов; но лучше всего на эту жалкую, зажатую натуру воздействовали карнавальные шествия, грохот барабанов и бубнов, гонгов и тарелок. Среди этого шума разум ее отдыхал, и мысль, преследовавшая ее столько времени, казалось, не могла пробиться в голову.
К тому же причудливые одеяния индейцев, наряды, порожденные первобытными легендами, — крокодилы, змеи, черепахи, живые, действительно живые! — рисовали ее скудному воображению образы прозрачных рек, бескрайних лесов, уединенных и чистых мест, где отдыхала ее душа. Выкрикиваемые грубыми, хриплыми голосами старинные песни, с их неумолимым ритмом и крайне бесхитростными мелодиями, казалось, подавляли жившую в Исмении тоску, скрытую, зажатую, сдерживаемую: она должна была взорваться истошным криком, но для этого не хватало сил.
Жених уехал за месяц до карнавала, и после грандиозного столичного праздника мучения девушки лишь усилились. Она была непривычна к чтению и беседам, домашних обязанностей у нее не было, и она целый день проводила в постели или сидела в кресле, думая лишь об одном: она останется незамужней. Она плакала, и от этого ей становилось легче.
Когда приносили почту, в ней все еще вспыхивала радостная надежда. А вдруг? Но письма не было, и Исмения возвращалась к своей мысли: она останется незамужней.
Закончив рассказ о горестях несчастной Исмении, госпожа Аделаида добавила:
— Она заслужила это наказание, вы не считаете?
Колеони ответил, мягко и доброжелательно:
— Нет причин отчаиваться. Многие ленятся писать…
— Что вы, сеньор Висенте! — воскликнула госпожа Аделаида. — Уже три месяца!
— Он не вернется, — убежденно сказал Рикардо.
— А она все еще ждет, госпожа Аделаида? — спросила Ольга.
— Не знаю, девочка моя. Никто не понимает этой девицы. Говорит мало, а если говорит, то полунамеками… Кажется, у нее нет ни крови, ни нервов. Она грустит, это чувствуется, — но не говорит.
— Это гордость? — предположила Ольга.
— Нет-нет… Будь это гордость, она бы не упоминала то и дело об этом своем женихе. Скорее это вялость, лень… Похоже, она боится говорить, чтобы ее слова не сбылись.
— А что думают родители? — поинтересовался Колеони.
— Не знаю наверняка. Но, как мне представляется, генерал не очень обеспокоен, а госпожа Марикота полагает, что можно найти «другого».
— Он был лучшим, — заметил Рикардо.
— Пожалуй, у нее больше нет практики, — сказала с улыбкой госпожа Аделаида. — Она столько времени провела в невестах…
И разговор зашел о другом — вплоть до появления Исмении, ежедневно навещавшей сестру Куарезмы. Девушка поздоровалась со всеми, и всем стало ясно, как ей тяжело. Страдание оживило ее лицо. Веки покраснели, маленькие темные глазки расширились и блестели больше обычного. Исмения справилась о здоровье Куарезмы, после чего ненадолго воцарилось молчание. Наконец, госпожа Аделаида спросила:
— Есть письмо, Исмения?
— Пока нет, — ответила та, сдерживаясь изо всех сил.
Рикардо поерзал на стуле и похлопал рукой по столику, на котором стояла фарфоровая статуэтка; та опрокинулась на пол и почти беззвучно разбилась на бесчисленное множество осколков.
Это место нельзя было назвать безобразным, но не было оно и красивым. Тем не менее все здесь дышало спокойствием и удовлетворенностью — приют для человека, который находится в мире со своей судьбой.
Дом стоял на цоколе — некоем подобии большой ступени в маленьком холме, вдававшейся во внутренности дома; оттуда проходили в верхние помещения. Если смотреть от фасада, сквозь промежутки в бамбуковой изгороди, можно было увидеть равнину, которая заканчивалась у подножия дальних гор; перед самым домом по ней протекал стоячий ручей с грязной водой; чуть подальше время от времени пробегал поезд, разрезая светлую ленту долины с ее скошенной травой; слева выныривала дорога, с домами по обе ее стороны, которая вилась по равнине до самой станции, пересекая ручей. Поэтому из жилища Куарезмы открывался вид далеко на восток — до гор, обрывающихся к югу. Выбеленные стены выглядели празднично и изящно. При всем прискорбном архитектурном убожестве, свойственном нашим сельским жилищам, в нем были обширные залы, просторные жилые комнаты — все с окнами — и веранда с разномастными колоннами. Кроме главного дома, в «Покое» — так называлось имение — были и другие постройки: старая мельница, где колесо было снято, а печь сохранилась, и крытая соломой конюшня.
Читать дальше
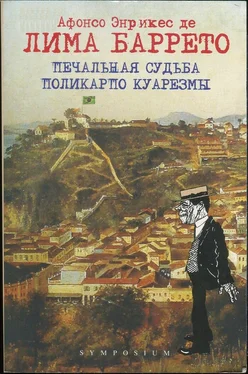
![Олег Рой - Самая печальная картина на свете [с цветными иллюстрациями]](/books/33888/oleg-roj-samaya-pechalnaya-kartina-na-svete-s-cvetn-thumb.webp)






