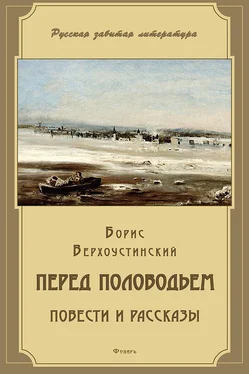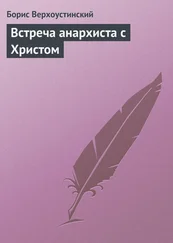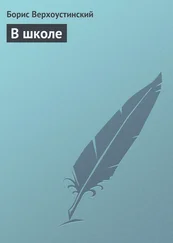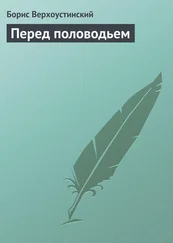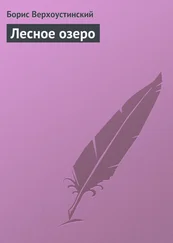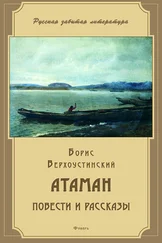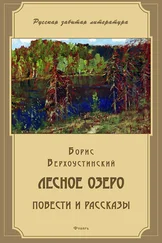— Обидели они меня, — указывает Архип Егорыч на подсудимых, — морду окровавили, чуть не ослеп, за то и их побили, да и в тюрьме посидели. Стало быть, квиты. Простите их, господа судьи, покорнейше прошу, а я их прощаю. Наше дело — они меня, их за меня, ну и ладно: губить молодые жизни не подобает.
— Можете идти! — обрывает его речь председатель, брезгливо усмехаясь.
Архип Егорыч с достоинством возвращается на свое место и видит среди публики бледную женщину, встретившуюся ему при входе в жандармское правление. Вместе с матерью сидит небритый мужчина в засаленной тужурке железнодорожника. Он что-то нашептывает ей на ухо, но она замерла, как изваяние, и, вероятно, ничего не слышит, не видит и не понимает.
Лениво, словно нехотя, прокурор произносит свою речь. Прежде всего он квалифицирует преступление, потом касается его общественной и моральной сторон. Он требует наивысшей меры наказания:
— Страна в опасности! На вас, господа судьи, лежит большая ответственность, охранение мирных обывателей от деморализованного элемента. Закон ждет непреклонности!..
После прокурора говорят защитники. Тонкий вытягивает шею, размахивает руками и старается убедить своим видом всех и себя, что он чрезвычайно взволнован, но все и он сам отлично понимают, что он только пыжится. Толстый же адвокат говорит иначе: он начинает спокойным, ровным голосом, словно стоит среди добрых знакомых и с ними делится мыслями, — но чем дальше, тем тревожнее становится его речь, переходя под конец в настойчивые возгласы.
Подсудимые отказываются от последнего слова, суд уходит в совещательную комнату.
«Как же так, — напряженно соображает Архип Егорыч, — я простил, а их судят?»
— Купец! — слышится голос извозчика.
— Чего тебе?
— Пареньков-то ослобонят али нету?
— Должны освободить, помытарили, да и довольно.
— То чаю и я.
Суд совещается часа полтора, но вот раздается окрик пристава: «Встаньте!» — все подымаются.
Входят судьи и рассаживаются по своим креслам.
Председатель читает:
— …признаны виновными и приговорены: крестьянин Иван Тешков, 22 лет, к смертной казни через повешение, а мещанин Петр Силантьев, 19 лет, к ссылке в каторжные работы, сроком на двадцать лет.
Как окровавленная птица, взлетает, дрожит и падает пронзительный вопль. Все смешивается, судьи, защитники поспешно расходятся. Мать падает грудью на спинку скамьи и затихает.
— Да ты брось, да ты брось, Пелагеевна! — хлопочет около матери мужчина в тужурке железнодорожника. Чья-то рука подносит к бескровным губам матери кружку с водой.
Архип Егорыч, тяжело сопя, смотрит на происходящее и вдруг ударяет кулаком по спинке скамьи:
— Н-не по правилам! Господа судьи! — и тут только замечает, что кресла с сафьяновыми спинками пусты, что в зале нет осужденных.
— Болван! — кидает в лицо Архипу Егорычу приходивший утром студент. — Иуда!
Архип Егорыч, красный, как петушиный гребень, медленно выходит из зала суда.
Ржаво щелкает ключ в замочной скважине, в доме наступает мертвая тишина. Ни звука, ни шороха не доносится из уединения Архипа Егорыча.
С жаровнею и с медным тазом дочери спешат в сад — надо варить варенье, надо запасаться сладостью на зиму. День стоит тихий, теплый, один из тех кротких дней осени, когда она выпускает в неподвижный воздух крохотных мошек, не жалящих, не надоедающих, а только суетливо толкущихся.
— Уж папаша не болен ли? — беспокоится Марфонька. — И глаза запали, и нос вострым стал.
— Чай, по матушке пригорюнился! — отвечает Параня, срывая яблоки.
Марфонька отмеривает стаканом сахар, ссыпает его в таз, подливает воды, чтобы сахар не пригорел, и ставит на жаровню — угли тлеют, мигают синими язычками, в чистый воздух кроткого дня, слабо тянутся угарные струи. На табурете, в большом блюде, лежат темно-сизые сливы, косточки из них вынуты, — сливы словно дышат, открыв темно-сизые рты.
Параня молча снимает длинною палкою яблоки, наполняя ими бельевую корзину. Иные срываются и с глухим стуком ударяются оземь.
На крыльце слышен кашель Архипа Егорыча. Дочери смущенно взглядывают на спускающегося в сад отца. Он идет медленной, старческой походкой, щурясь от солнечного света.
— Варенничаете?
Прислонясь к стволу яблони, он сосредоточенно наблюдает, как Параня поддевает яблоки.
— Так-то-с, девоньки! — со вздохом выговаривает он. — Дай-ка ты, Параня, мне сладенького.
Она протягивает ему подол с яблоками; выбрав получше, он уходит обратно в дом и лишь на крыльце оборачивается:
Читать дальше