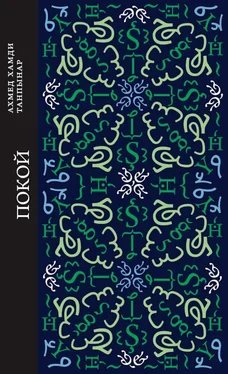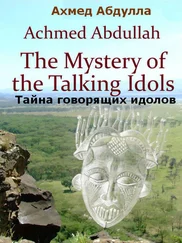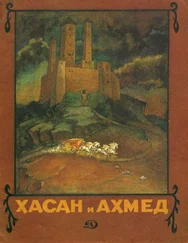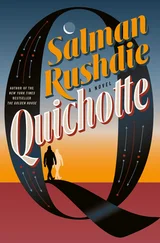«Мне придется пройти по пути, по которому я уже проходила. Разве можно представить страдание больше, чем это? Почему мужчины такие эгоисты? Почему они считают нас такими же свободными, как себя?» Эти туфли нужно обязательно переодеть. Каблуки у туфель были такие грубые, что она напоминала себе своих старых преподавательниц из колледжа. В таких туфлях можно было только читать лекцию по женскому праву. Правда, конечно, дело не в туфлях… «Ясно, что лекцию читать будут не туфли… Как можно считать меня в них красивой и изящной?!»
«Вчера утром у той девушки губы алели, как цветок граната, он ведь все время поглядывал на нее. Даже я видела со своего места зов этих губ, и это раздражало меня. Но он стоял и смотрел все же на меня. Как странно он тянет голову. Каким некрасивым он становится, когда вытягивает шею…» Ей хотелось сказать ему сейчас: «Давайте, уходите уже, расстанемся здесь… Зачем эта бессмысленная настойчивость?» Но она никак не могла произнести этих слов. Она знала, что огорчит его до смерти. Между тем огорчать его ей не хотелось. Она готова была даже, обняв, приняться утешать его посреди улицы, если бы только она могла его утешить, если бы только у нее была такая возможность, то она непременно воспользовалась бы ею — ради собственного удовольствия. Ведь быть жестокой — тоже удовольствие. Она чувствовала сейчас это всем своим существом, словно жестокость была ее потребностью. Пусть бы это длилось мгновение, всего лишь короткое мгновение. Ведь больше она бы не вынесла; больше ей бы и не захотелось. Жалость была частью ее натуры. Ради него нужно было попробовать в самой себе все: и счастье, и муки. Нуран собиралась заставить его испробовать все; так как она это сознавала, она казалась себе сильной, очень сильной. Поэтому она улыбалась, и ее изящная улыбка напоминала острие ножа. Но страх в ней не смолкал. «Если нас с ним увидят, кто знает, что скажут? Так заметно, что он моложе меня… Решат, что я бросила Фахира ради него. А я Фахира не бросала… Он меня бросил». Ах, вот бы он ушел и оставил ее в покое…
А босфорский пароход заполнила уже совершенно иная публика. Прибрежные босфорские районы не были похожими на Острова, которые за короткое время, едва ли не за один сезон, почти внезапно превратились в дорогую роскошную виллу с цветочными клумбами в саду и с широкой асфальтовой дорогой, каждую деталь которой устроили деньги в период упадка самого Стамбула. Изначально они жили вместе со Стамбулом, богатели, когда богател он, беднели, когда и он терял свои рынки и базары, но потом их пристрастия сменились, и они ушли в себя, сохранив, насколько можно, устаревшую моду, короче говоря, они превратились в место, в котором сложилась собственная цивилизация.
Мюмтазу казалось, что, когда едешь на Острова, теряешь самого себя. Острова были местом сборища «идеальных» людей; там можно было почувствовать тоску о том, что на самом деле нам совершенно не нужно, что по меньшей мере отдаляет нас от самих себя и, совершая это, заставляет оставаться поверхностным. А на Босфоре абсолютно все призывало вернуться к самому себе, заставляло опуститься в глубины собственной души. Потому что вещи, смешивавшиеся здесь, прекрасный вид, архитектура, насколько она сумела сохраниться, — все было родным, османским. Все это было создано вместе с нами, все появилось вместе с нами. То была окраина с крохотными мечетями при маленьких деревеньках, карликовые минареты и вымазанные известкой заборы которых были свойственны и некоторым районам Стамбула; иногда к этой картине добавлялись обширные кладбища, простиравшиеся от края до края горизонта; иногда виднелась старая чешма с надписью, по-прежнему дарившая прохладу одним своим видом, хотя раковина была разбита вместе с краном, из которого давно не текла вода; то была окраина, где царили огромные прибрежные виллы-ялы, деревянные дервишеские обители-текке, во дворах которых ныне паслись козы; то был край стоявших на берегу кофеен, куда доносились из лавок возгласы подмастерьев, как отголосок стамбульского мира, переживавшего мистическую жизнь Рамазана; край площадей, наполненных воспоминаниями о старинных схватках под звуки зурны и давула [61] Зурна, давул — традиционные турецкие музыкальные инструменты; зурна — духовой, давул — разновидность барабана.
борцов-пехлеванов, одетых не то в национальную, не то в праздничную одежду; край больших платанов; край облачных вечеров; край рассветов, где, отражаясь в призрачных зеркалах, плавают в перламутровых снах девы зари с факелами в руках; край таинственного эха, тихий голос которого похож на голос друга.
Читать дальше