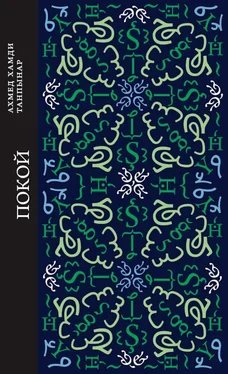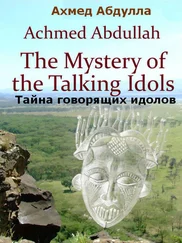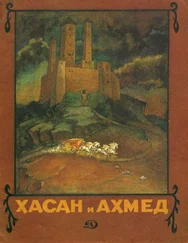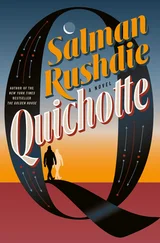— Он уважает человечество? Тогда он совершенно сумасшедший! — вдруг голос врача изменился. Он смотрел на окружавшие его дома, в тусклом свете казавшиеся еще более жалкими среди деревьев, напоминавших застывшие руки, на пустырь, заросший сорняками, и на лицо своего собеседника, усталость которого в темноте только чувствовалась; где-то над их головами забил своими крыльями петух, и с его криком заточенный в теле ночи свет растекся по темному небу, как расплавленный рубин по агату.
— Восток! Мой дорогой Восток! На взгляд со стороны ты кажешься слабым, беспомощным и бедным. Но это обманчиво, изнутри все выглядит иначе. Может ли быть лучше цивилизация, чем эта? Когда мы научимся находить удовлетворение в том, что внутри? Когда мы поймем смысл этой фразы: «Смотри на мир с радостью, ведь его главная ценность — ты»?
— Кажется, Восток уже понял!
— Понял он это или нет, он уже все сказал!
Мальчишка-фонарщик, уличный бродяжка, догнал их, как бесплотная тень, и зажег уличный фонарь. Мюмтаз вошел в дом после врача и в ярком зеркальном отражении увидел, что вещи, которые он оставил несколько часов назад, до сих пор лежат там же, с тем же безразличием, такие же самодовольные, сосредоточенные только на себе и блестящие. Он подумал: «Эти вещи выглядят так, как будто они только и ждут возможности отдалиться от нас…»
«Мир существует без меня. Он существует только для себя. Он продолжается вечно. А я всего лишь песчинка в этом бесконечном процессе. Однако я существую и нахожу силу для существования в осознании этого продолжения. Благодаря этому продолжению я начал движение из собственной исходной точки и, возможно, мой путь продлится вечно…»
Он осмотрелся с видом человека, который ждет милосердия от кого-то очень жестокого. Ведь он знал, что не сможет двигаться целую вечность; что, возможно, в эту минуту, возможно, завтра, возможно, через несколько дней, короче говоря, однажды его собственное продолжение в общем движении будет закончено; его путь будут продолжать другие; он не будет прежним, не будет чувствовать прежние страхи и даже не будет знать, есть ли у него вообще страхи или нет. Вечность представляла собой рассеянный свет, который иногда доходил до глубин разума. Но не до самых больших глубин, а только лишь до той части, которая стремилась к неизвестному. Между тем реальность царила в этой комнате, где лежал больной, неприятный запах лекарств, пота и болезни, которую он ощутил, еще не успев войти, еще в прихожей на лестнице, и которую он познал одним взглядом благодаря своей двойной жизни и благодаря прошлому, преследовавшему его всю жизнь. Тамошней реальностью было страдание. Тем не менее были и другие реальности, которые он не видел, которые не ощущал, но которые резали его, словно нож. Например, похожая на лилию Нуран в белой ночной рубашке, рубашке, которую они однажды выбрали вместе; ветви деревьев, свисавшие через низкий забор дома в Эмиргяне; крепкая смоковница, которая будто оживала каждую лунную ночь; молодая чинара перед ее дверью. Вечера в саду перед домом; маленький стол и кресло, напоминавшие, что счастье еще возможно; иногда они забывали убирать скатерть с этого столика; он так скучал по утренним чаепитиям с ней, по тому, чтобы вновь сидеть рядом с ней.
Но были и другие реальности. Он никогда не видел их, и даже никогда не знал об их существовании; однако он чувствовал, что в свете событий нескольких последних дней они укоренились в нем. Они тоже резали его, как нож. Работники телеграфа, которые, сидя у телеграфных аппаратов, передавали из одного места в другое полученные ими известия, размышляя о своих женах, детях, домах; наборщики, которые, обжигая руки, набирали эти новости в типографиях; домохозяйки, которые, получив эти известия, заламывали руки, наверное, в двадцатый раз открывали приготовленную сумку, много раз обойдя свой дом, чтобы посмотреть, не забыли ли чего, с хрупкой улыбкой шептали беспомощные молитвы, потому что они не могли ничего сделать и не могли добавить ничего полезного и нового перед лицом неизвестности… Свист паровозов, песни разлуки… Все это тоже резало его, как нож. Нет, в его доме была не вечность, а целый мир. Такой мир был в каждом человеке. Об этом мире, который существует в уголке нашего естества, мы иногда забываем за повседневными заботами или в определенном психическом состоянии, однако мы носим этот мир в нашей плоти и в нашей крови, как «мир, тяжесть которого ныне у нас на плечах, нравится нам это или нет». И тут Мюмтаз увидел, что врач, у которого тело было, как у борца-пехлевана, сильнее согнулся под грузом этой своей ноши у постели больного.
Читать дальше