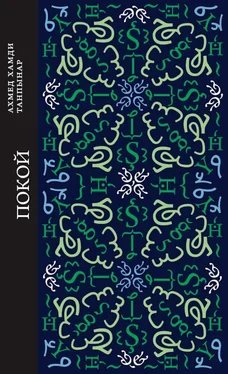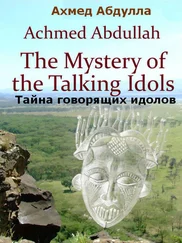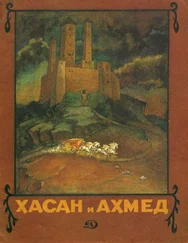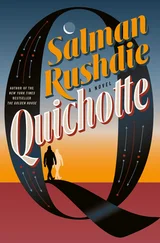— Есть еще один момент. Осуждая несправедливость, важно при этом не совершить новую несправедливость. Эта война, если она произойдет, заставит пролиться много крови. Однако страдания, которые нам предстоит пережить, будут напрасными, если мы не изменим наш подход.
«Ты должен искать свое спокойствие не в Нуран, а в себе самом. А это возможно только через самоотречение». Мюмтаз встал.
— Я беспокоюсь об Ихсане, — сказал он. — Простите меня. И забудьте об этих мыслях. Кто знает, может быть, войны совсем не будет. Или же она будет, но мы не вступим. Мы — народ, который уже потерял немало крови. Из этого мы вынесли серьезный урок. Может быть, нам позволят обстоятельства, и мы не вступим в войну.
Уходя от друзей, он заметил, что они совсем не говорили о возможных переменах, которые могла бы принести война. В душе он обрадовался этому.
«Неужели война в самом деле будет?» Рядом с ним раздался голос: «Не обращай внимания, — произнес он. — Ты очень хорошо говорил и испытал облегчение. Этого достаточно!» Это был насмешливый голос Суата.
Мюмтаз побежал и запрыгнул в трамвай, возможно, для того, чтобы убежать от этого голоса.
Состояние больного было без изменений. Изможденное лицо Ихсана раскраснелось от лихорадки. Приоткрытые губы растрескались; время от времени он пытался смочить их языком. Это был уже не прежний Ихсан; он уже был на пути к тому, чтобы стать воспоминанием о самом себе. Увидев его в таком состоянии, Мюмтаз убедился, что тот почти завершил то, что ему было предначертано. Это была подготовка к тому, чтобы остаться только в памяти своих друзей. «Пусть его лицо и выглядит сейчас более измученным, осунувшимся, но он все равно останется таким, как мы его помним, и только поселится в наших душах».
Мюмтаз посмотрел на руки больного. На руках выступили вены, которые выглядели так, будто они раскалены. Однако руки были живыми. Их захватила совершенно иная жизнь, и они выглядели живущими сами по себе, будто существовали в совсем ином мире. В этом мире стояла температура в сорок градусов, но не только температура определяла этот мир. В этом мире существовало множество микроскопических организмов, микробов и бацилл, которых можно было увидеть с помощью специальных приборов и которые обычно томились в тонких стеклянных колбах, бывали заточены в пипетках, бывали привиты различным животным и так воспроизводились; для их жизни и размножения создавались особенные условия, специально подбирались определенные температуры тепла или холода; им посвящались многочисленные эксперименты, целью которых было выяснить их истинную крошечную, невидимую глазу природу, а также отделить их от их среды; им приписывали самые невозможные формы; и у этих существ, которых хранили в различных жидкостях, от красной крови до грязно-зеленых смесей, были особенные условия существования. Условия, которые эти существа приносили с собой, создавали и температуру между тридцатью девятью и сорока, и особенный климат между жизнью и смертью, совершенно непохожий на привычный нам климат, и невероятную высоту, и разлагающееся удушающее болото, и недостаток воздуха, ощущающийся на высоте тысяч метров словно в жерле бурлящего смесью неведомых газов вулкана.
Грудь больного поднималась и опускалась рывками, как неисправные мехи, не находя достаточно сил для спасительного целебного для жизни дыхания; жадно захватывая воздух, словно желая его проглотить, но при этом выпуская его незаметным движением, подобно проколотой шине.
Этот орган, от которого остались только самые примитивные и схематические функции, двигавшийся вверх-вниз столь неисправно, было сложно назвать человеческой грудью. В полумраке из-за лампы, светившей в изголовье, его страдание делалось еще более заметным. Свет в комнате больного тоже был странным; казалось, что этот свет демонстрирует любую вещь, делая ее особенным знаком и настойчиво перечисляя и пересчитывая все имевшиеся в комнате предметы. Этот свет словно бы говорил: «Я сопровождаю определенное состояние, нахожусь на границе между тридцатью девятью и сорока градусами, это последний предел; я его освещаю». Мюмтазу казалось, что все вещи в комнате в какой-то степени вели подобные речи. Кровать раздулась вместе с больным и приняла на себя его страдания. Шторы, зеркало гардероба, тишина комнаты; все громче и быстрее раздававшееся тиканье часов, — одним словом, все показывало, какой поразительной была эта линия между тридцатью девятью и сорока, насколько ужасным был переход от известного к неизвестному, от числа к нулю, от деятельного разума к абсолютному бездействию, какой трудной была дорога.
Читать дальше