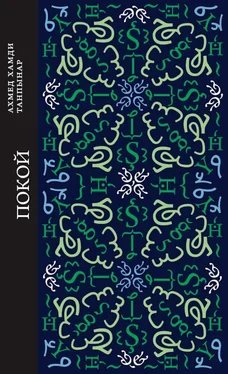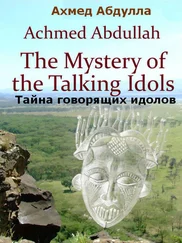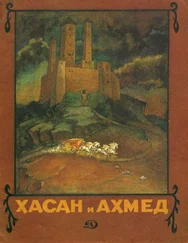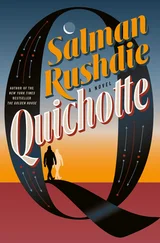Начиная с того самого момента Мюмтаза стало пугать то, что Суат находится там, среди них. Больше он не ревновал его, как прежде. Но при этом странным образом все его мысли все равно были связаны с ним. Внезапно то, что Суат являлся приятелем Нуран, любил ее, очень давно знал ее; пугался и грустнел от ее колкостей и смелости, обожал, когда она ведет себя бесцеремонно либо позволяет себе маленькие глупости; любил ее ум и стремительное течение мыслей; однако старался жить как можно дальше от нее, потому что дороги их давно разошлись, — выдвинуло его на совершенно другой план и сделало его мучительной частью жизни. Суат был так увлечен Нуран, что, начиная с того момента, как он отправил ей письмо, не могло пройти и трех часов, чтобы он не думал о ней и не переживал о ней. С того самого дня Мюмтаз испытывал по отношению к Суату чувство, похожее на то притяжение, которое испытывает кролик перед удавом, чувство, которое переживают все угнетенные по отношению к угнетателю, сами того не подозревая. Это было совершенно естественно; между ними теперь говорила, как выразился один европейский поэт, «мрачная сила убийства»; их не объединила любовь к Нуран. Каким бы ни было их положение в этой любви, их все равно бы разделяло некое тайное чувство несправедливости. Однако возмущение, свидетелем которому во время исполнения музыки стал Мюмтаз, представило ему Суата в совершенно новом свете. Он несколько раз задавался вопросом: «Интересно, что у него произошло, что с ним?» Затем этот вопрос приобрел более определенную форму. «Чего же он такого искал в музыке, что решился на такое открытое возмущение?» За этими размышлениями он вновь посмотрел на Суата. Но на этот раз он не увидел на его лице никаких эмоций. Суат все так же слушал музыку с большим и даже с чрезмерным уважительным вниманием к прекрасно исполняемому произведению и к тем, кто тратил силы на его исполнение, но внимание это как раз и демонстрировало, что он унесся мыслями далеко. Это безразличие вызвало у Мюмтаза столько же беспокойства, сколько давешнее возмущение. Настолько, что он лишь усилием воли заставил себя не пропустить окончание произведения.
Мюмтаз был погружен в собственные мысли, когда Эмин-бей, словно вручая им собственное время, дарил всем присутствовавшим мелодию «Ферахфеза», части первого приветствия айина которой композитор написал семью различными способами: в первой части она звучала очень красиво и неожиданно, это было открытие из глубин нас самих; а в остальных частях она напоминала попытку сберечь нашу внутреннюю жизнь, и поэтому мелодия звучала, словно воспоминание, индивидуальность и сила которого постепенно возрастала. И поэтому Мюмтаз понял, что сможет совладать со своими чувствами только из-за этого возмущения, которое он увидел в Суате, из-за неизвестности, которая осветилась полетом падающей звезды и свернулась в клубок блистательной туманности; что он будет переживать эти чувства так же часто, как и другие люди; что фразы «Ферахфеза» воссоединились с тенями существ, погребенных во тьме прошлого, пределы которого неизмеримы, и с нашей собственной сутью; то был неизбежный итог каждого музыканта, играющего на нее , который достиг последнего прибежища, определившего истинный лик всей его жизни.
Если бы все, что приносила музыка, мы бы не стали растрачивать на пустые технические детали, то ее воздействие на нас оставалось бы постоянно субъективным. Под каждым произведением, которое глубоко врезалось нам в память, хранятся особенности момента, в который мы с ним соприкоснулись, и в то же время этот момент включает в себя событие, которое привнесло эту музыку в нашу жизнь.
В то время, пока звучал айин «Ферахфеза», Мюмтаз унесся в мечтах очень далеко, при этом фантазии его занимали все вокруг него, внутри него и весь его разум, и в фантазиях он уносил с собой эту музыку. Эти фантазии собирались вокруг сидевшей поодаль Нуран, за которой он наблюдал, и долетали до эпохи Селима Третьего, Шейха Галипа, до времени Махмуда Второго, до его собственных воспоминаний о лете, до вечерних часов в Канлыдже, до дороги, спускавшейся вниз в Кандилли, до тех потрясающих игр света по утрам на Босфоре; они были цветными, изящными и эфемерными лицами и формами, которыми стали сами собой мелодии Исмаила Деде. Если бы эти фантазии остались наедине сами с собой, совсем как огонь в очаге, то они бы прожили свои очень короткие жизни внутри музыки, породившей их, и исчезли бы. Но этого не случилось. От той мгновенной беспомощности, которую Мюмтаз увидел на лице Суата (сейчас Мюмтаз понимал, что истинный смысл выражения возмущения, презрения и гнева, которые, как Мюмтазу казалось, он читает на лице Суата, были на самом деле всего лишь безысходностью), строй этих фантазий почему-то внезапно стал глубже. Все мелодии, появлявшиеся из «Саба», «Нева», «Раста», «Чаргяха», «Аджема», получая свое истинное решение в «Ферахфеза», создавая каждую фразу, готовую придать смысл всем их печальным, наполненным воспоминаниями жизням и занять их место, впитали безысходность Суата и сделали ее достоянием Мюмтаза вместе с его печальным опытом. Как раз тогда, когда голос нея оборвался в том месте, где для всех этот красочный мир, который дарил ощущение жизни в вечерней призрачной радуге, соткавшейся вокруг музыки, должен был постепенно развеяться, внутри Мюмтаза возник еще один уровень, с новой сущностью огромной силы. И какие бы стоянки ни проходило его воображение, пока звучала музыка, оно все время возвращалось к Нуран, и поэтому ощущение безысходности, передавшееся ему от Суата, слилось в единое целое вместе с мыслями о Нуран.
Читать дальше