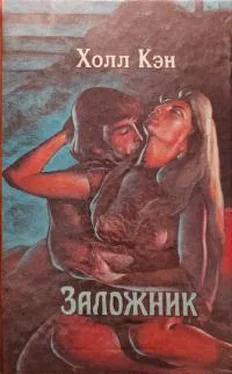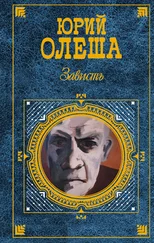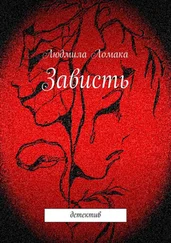Очень часто Фредерик был готов признаться Мари, что он обязан Давиду не только духовным спасением, но и спасением жизни, однако его удерживало обещание, данное другу, к тому же он опасался взволновать мать.
Что касается Мари, то, вспоминая все поведение Давида с первого часа выказанной им преданности до сегодняшнего радостного триумфа, она вспомнила лишь его приветливость, простоту, деликатность благородство и настойчивость, увенчавшиеся таким блестящим успехом, достигнутым благодаря доброте сердца и возвышенности ума. Итак, она испытывала к Давиду чувство, которое трудно определить: это была смесь нежной привязанности, восхищения, уважения и горячей признательности, ибо молодая женщина была обязана Давиду не только исцелением Фредерика, но и надеждой на его большое будущее, которое она видела славным, знаменитым, не сомневаясь, что его способности, умело направленные Давидом и подстегнутые пылом благородного честолюбия, в один прекрасный день вознесут Фредерика.
Теперь в сердце Мари Давид стал неразлучен с Фредериком и, не отдавая себе точного отчета в этой надежде, молодая женщина чувствовала, что ее жизнь и жизнь сына неотделима или, скорее, тесно переплелась с жизнью Давида.
Вечер, проведенный в комнате для занятий матерью, сыном и Давидом, был замечательным.
Однако некоторые радости истощают силы, как и горе. Все трое расстались раньше, чем обычно, сказав «до завтра» в чудесной уверенности, что завтрашний день будет счастливым и столь же радостным.
Давид поднялся в свою маленькую каморку.
Он тоже хотел остаться один. Слова, произнесенные Фредериком в порыве признательности, когда он говорил матери о своем наставнике: «Люби его, мама, благословляй», эти слова, на которые Мари ответила, послав ему взгляд, полный невыразимой благодарности, наполнили сердце Давида одновременно радостью и горем.
Он чувствовал, что дрожит, когда встретился несколько раз взглядом с голубыми глазами Мари, залитыми сладостной материнской нежностью. Он трепетал, видя, какими горячими ласками она осыпает сына. Против воли Давид думал о тех сокровищах страсти, которые должна содержать эта чистая и пылкая натура.
- Что было бы, если бы в ее сердце поселилась иная любовь, кроме материнской? - говорил он себе. - Как она была прекрасна сегодня! Какое чарующее выражение! О, я чувствую, что настал для меня час опасности, борьбы и страданий. Вот как окупаются слезы Мари. Я упрекаю себя за то, что посмел поднять глаза на эту молодую мать, столь прекрасную в слезах…
А вот она, такая лучезарная от счастья, которым обязана мне, вот с наивной признательностью ее растроганный взгляд переносится с Фредерика на меня, снова на него и на меня. А ее сын говорит: «Люби его, мама, благословляй» и красноречивее молчания трогательный взгляд этой обворожительной женщины подает мне надежду, что, может быть, в какой-то день.
Давид не осмелился продолжать эту мысль и сказал удрученно:
- Да, настало время смирения и страданий. Признаться в своей любви я не могу. Предоставить Мари догадаться о ней теперь, когда она стольким мне обязана? Она может подумать, что за моей преданностью скрывается расчет. Заставить ее предполагать, что вместо того, чтобы поддаться стихийно интересу, который внушил мне ее сын, столь похожий на оплакиваемого мною брата, я надел личину притворства и под предлогом участия захотел добиться доверия молодой женщины? Потерять в ее глазах единственную заслугу моей преданности и верности, пасть в ее мнении? Никогда, никогда! Между мною и Мари постоянно будет ее сын. А чтобы убежать от этой любви, которая постоянно возрастает, должен ли я покинуть их дом? Нет, я еще не могу. Сего дня, в упоении откровения Фредерик сменил мрачное отчаяние на пылкое воодушевление, но вдруг Фредерик снова упадет в пропасть, куда он скатывался?
Он испытывает подъем узника, вдруг вырвавшегося на свет и свободу, но лечение должно продолжаться. Не умерится ли теперь порыв его молодого воображения? И, может быть, завтра, когда первая экзальтация пройдет и он лучше станет понимать, какие героические силы он должен черпать в зависти, Фредерик вспомнит, без сомнения, с большой горечью, свою мрачную попытку убить Рауля де Пон-Бриллана. Благородное и обильное искупление - единственное, что может изгладить угрызения, которые отчасти толкали юношу на самоубийство. Нет, я еще не могу покинуть этого ребенка, я слишком много сердца вложил в это дело. Мне надо остаться, остаться. И каждый день находиться в тесном контакте с Мари, видеться с ней наедине. Она пришла ко мне одна, поздно вечером, в милом домашнем одеянии, память о котором сжигает и опьяняет меня и преследует даже во сне, когда я хочу забыться и отдохнуть.
Читать дальше