Невероятно тяжко было Катице уезжать, когда родители отправляли ее в большой город, в услужение; все равно что вырвать из груди сердце с корнями… Казалось ей — тут, под Грабовиком, закатилось ее солнышко и никогда больше не осветит мир. Словно затворились ворота ее рая, и вытолкнули ее в пустыню, где одни колючки да репейник. Но и на этом тяжком пути сверкнул ей лучик утешения: Пашко пришел в Дольчины, где ей надо было садиться на пароход. Пришел, обещал, что всегда будет думать о ней, не забудет. Пускай потерпит, послужит; год — не бог весть какой срок, пролетит, и не заметишь. А потом поведет он ее в свой дом… И они все смотрели друг на друга, — она с палубы парохода, он с набережной, смотрели взором глубоким, бездонным, в котором отражалось все, что чувствовали их сердца. И пока не скрылся пароход за гористым мысом, все махали друг другу платками, и текли по щекам Катицы тяжелые слезы.
Ах, зачем повторять, что нет на земле ничего постоянного! Попала Катица в город — новая жизнь, шумная, веселая; новые впечатления, сильные, внезапные; новые интересы, честолюбивые, устремленные к чему-то более высокому; новые мечты, до той поры не изведанные — и ненасытные; комплименты городских франтов, столь лестные для неискушенного слуха… Все это стало причиной того, что поблек образ Пашко и довольно скоро покрылся пылью забвения. Только когда ехала Катица домой на фьеру да открылись ей издали белые стены отчего дома под Грабовиком — повеяло на нее старыми воспоминаниями, так, как вспоминается нам давний сон.
Но сегодня и воспоминания расплылись, и сон забылся — осталось горькое разочарование, печаль на сердце. Как стояла утром перед церковью, видела Пашко: в неуклюжих башмаках, в дурно скроенной одежде, в бесформенной соломенной шляпе, неискусно повязанной голубой лентой. «Да Пашко ли это?» — невольно спросила она себя, и в сердце ничего не отозвалось, не дрогнуло — ничего-то оно не признало… Стало быть, сон, только сон! Действительность трезва, нага, жестока, нет в ней ни взлетов, ни красоты, ни утехи. И когда Пашко посмотрел на нее, сначала счастливым, потом испытующим взглядом, словно спрашивал, укорял: «Неужели не помнишь?» — Катица в тяжелом смущении отвела глаза. Потом ее заняли другие картины, прекрасные, приятные, давшие пищу уму и сердцу.
И вот теперь — Пашко стоит перед ней! И взор его — уже не тот, испытующий, полный ожидания и нежности. Нет, Пашко весел, красен в лице, упоен наслаждением от танца. Подходит смело, вызывающе смотрит ей в лицо, а оно выражает смущение и недовольство. Потянул ее а круг — она отстранилась:
— Не пойду, не могу — тяжело мне…
— Принцесса! — вскричал Пашко, и на лбу его вздулась вена. — Не по нраву тебе наши забавы? Мы ведь грубые тежаки! Черный люд, сброд — так?
Катица побледнела — как он сразу угадал ее мысли! А Пашко, со злыми глазами, наклонился к ней и голосом, дрожащим от негодования, глухо проговорил:
— Так наши забавы слишком низкие для вас, шьорина? Вижу, прекрасно вижу, что думает расфуфыренная трясогузка! Только не торопись — допрыгаешься!
Гневен взор Пашко…
Катица чувствует себя так, словно отхлестал он ее по лицу крапивой. От оскорбления выступили слезы, душе больно, отвратительно — все здесь ей противно, все оскорбляет. От Пашко сильно пахнет вином и чесноком — тяжко Катице, и думается ей — не от гнева, а от вина пылает лицо Пашко.
— Что ж, пойдем с тобой! — вдруг поворачивается Пашко к Матии, презрительно махнув рукой на Катицу.
— Нет, Пашко, не могу я, прости! — мягко просит Матия, стараясь высвободить руку. — Я только посмотреть пришла, нельзя мне танцевать…
— Да брось, Матия, иди! — крикнула Лоде из-за спины Пашко. — Хоть один танец! Жених твой сам виноват, зачем не приехал?
— Нет, никак не могу, — твердит Матия.
— А не хочет, не надо. Кисейные барышни! — бросил Пашко, отворачиваясь от сестер. — Могли и вообще не являться — без вас обойдемся…
И он, подхватив Лоде, закружился с ней в толпе пляшущих.
Сестры поторопились скрыться, по возможности незаметно. Никто уже не обращает на них внимания — все страстно упоены пляской. Матия с Катицей спустились в подвал, где устроен буфет. Невестки Бобицы выжимают лимоны в ведро с водой — пускай будет свежий лимонад для девушек, когда танцы кончатся и им захочется пить. В другом ведре вино, мужчины и женщины зачерпывают его кружками, деревянными ковшиками, пьют, как простую воду. Правда, воды в вине немало; да ведь оно и лучше: что сталось бы, кабы пили неразбавленное, в такую-то жару, да еще кружками?
Читать дальше
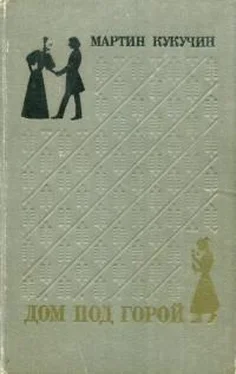



![Хью Пентикост - Убить,чтобы остаться [Город слухов. Дом на горе. Уберегите ее от злого глаза. Убить, чтобы остаться]](/books/86867/hyu-pentikost-ubit-chtoby-ostatsya-gorod-sluhov-thumb.webp)



