Дрожит в руке Катицы золоченый ножичек, который подала ей эта нарядная барышня — разрезать неявный пирог; дрожит рука, подносящая кусок ко рту — Катица боится, как бы не выронить его, не обнаружить всю свою неуклюжесть… И сладкий кусок горчит, вспухает во рту, словно впитал в себя все горькие слезы, что изливаются из сердца и огненным дождем падают на душу… Не может Катица проглотить ни крошки этого пирога, он кажется ей облитым желчью.
Нико тоже никак не стряхнет с себя тяжкую думу. Кто-то мощной рукой пригнул к земле его голову, давит, душит. Как перескочить через пропасть между ним и ею, где взять силы и отваги? Он всего лишь беспомощный червь, лишенный смелости, отягощенный старыми предрассудками, да еще сердце у него расколото пополам, ранено, кровоточит… И он, такой, мечтает осчастливить Катицу? Вот как будет выглядеть это счастье! Он воображает, что сумеет возвысить ее — ее, которая сидит рядом с ним, сжавшись, несчастная, желающая одного, чтоб земля расступилась, поглотила ее… Невозможно! Нет у нее крыльев, чтоб взлететь, — у него же нет сил ее вознести… Падает она и паденьем своим увлекает его в прах…
А остальные? Оживление спало, ушло веселье. Словно какой-то кошмар придавил их. Умолкли остроумные шутки, умные слова разлетелись, как перепелки от выстрела. Нить беседы порвалась, теперь с трудом вытаскивают то одну, то другую тему, разговор еле плетется, как ни стараются все. Недавно беседа вращалась в высших сферах, — легкая, яркая птица, — теперь с усилием ползет по болотистой почве серой будничности.
Катица наконец одолела кусок пирога, омочила губы в ароматном прошеке, какого никогда еще не пробовала, и огляделась робко, как потерпевший кораблекрушение, выброшенный волной на пустынный берег.
— Как поживают ваши? — ласково спрашивает ее шьора Бонина, сжалившись над потерявшейся девушкой.
— Спасибо, хорошо, слава богу. Мама — хорошо, а отец что-то прихворнул…
Ее мать… Нико вздрогнул. Снова всплыл образ Еры — сидит на лавочке рядом с ним, брызжет ядом на весь мир… «И в такой грязной луже я подхватил эту драгоценность!» — издевается он над самим собой, полный отчаяния. Уж поистине драгоценность, дыхни на нее, прикоснись, и весь блеск пропал… Вспомнил, что обещал ей купить украшение. Только куда она его прицепит? На руку, кожа которой покраснела от частого соприкосновения с водой и от которой разит дешевым мылом? А этот корсаж с темными лентами — он отлично пристал ей там, под Грабовиком, а здесь так режет глаз в сравнении с безупречным туалетом Дорицы, сидящим на ней так, словно она в нем родилась…
Нико собирает все силы, всю энергию своего духа, чтоб твердить себе: «Я человек чести — и сдержу, сдержу слово…» Хотел бы он высказать это искрение, со всем жаром души, высказать открыто, перед богом и людьми — и не может! Всякий раз всплывает другое: «Я — жертва, ненужная, только вред от такой жертвы…» Что такое честь, самая высокая, чистая, как золото, если она жестока, бессердечна… Под ее игом мучаются, страдают люди. Ее суровый закон лишен жизни и тепла, нет в нем нравственной основы и необходимости — это рабский закон, он готов нерасторжимо сковать друг с другом два существа, двух свободных людей, созданных для счастья, — сковать, чтоб они стенали, бились и гибли в тяжких оковах…
Кому нужна такая честь? Нет, не признаю я ее, не признаю, презираю!
Шьоре Анзуле совершенно ясно, какая борьба происходит в душе сына. Прочитала она и результат этой борьбы по жесткому, суровому выражению, появившемуся на его лице. Вот — в глазах его вспыхнула решимость, из груди вырвался вздох — вздох облегчения, освобождения после стольких, стольких дней угнетенности! Совсем другой человек — словно выбрался из мрака и с ликованием приветствует новый день…
— Вот как — отец прихварывает? — отозвался на слона Катицы шьор Илия. — Что же с ним такое? Совсем недавно заходил ко мне — я еще позавидовал его здоровью…
И шьор Илия с искренним сочувствием покачал головой.
— Правда, что с ним? — подхватила шьора Анзуля.
— Жалуется на боли. И худеет на глазах.
— Простудился, — решил шьор Илия — после своего выздоровления он как огня боится простуды, и повсюду мерещится ему теперь ее страшный призрак.
— Или надорвался на работе, — сказала шьора Бонина. — У нас ведь не знают никакой меры: работать — так работать, и прямо уж себя не помнят, как возьмутся. Особенно в страду.
— Это верно, — согласился шьор Илия. — Доктор говорил мне, что в страдную пору у него не бывает пациентов. Кто только в силах двигаться, ковыляет на виноградники…
Читать дальше
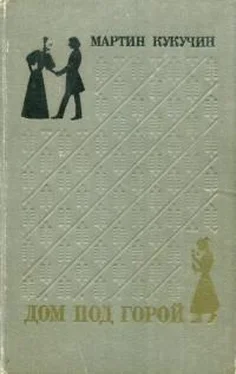



![Хью Пентикост - Убить,чтобы остаться [Город слухов. Дом на горе. Уберегите ее от злого глаза. Убить, чтобы остаться]](/books/86867/hyu-pentikost-ubit-chtoby-ostatsya-gorod-sluhov-thumb.webp)



