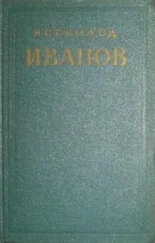– Весьма благодарен за лестное сообщение легенды; запишу немедленно, несмотря на голод, холод, недоразумения. Легенда необычайно ценная, особенно в наше время, не правда ли?
Рука у монгола твердая, жесткая. Лицо его обрадованно сияет, и он говорит несколько торопливо профессору:
– Весьма рад, что вы согласились. Я так и предполагал. Тогда же, в год появления бурхана Будды, явилось в песках воплощенное сомнение, но оно было немедленно же уничтожено нами. Я рад, что вы меня поняли, и обещанное мною вам стадо я еще более увеличу… На сто голов, – и три жены, да, увеличу.
– Какое обещанное стадо?
Монгол, весь сияя радостным лицом, исчезает в льдистых пролетах лестницы. Шаги у него звонкие и холодные. Да, на пороге холодно! Профессор задумчиво возвращается в кабинет. Здесь он, закутав поверх пальто ноги одеялом, пытается думать о картофеле, о муке, о деньгах. Но мысли его возвращаются к тому чувству, которое мелькнуло в нем сегодня утром, когда он проснулся. Он почувствовал себя одиноким. Правда, это чувство длилось одно мгновенье, но и это мгновение было очень тяжелым.
Три тысячи голов скота… пастух, наверное, не чувствует себя одиноким. Но ведь ясно, что в революцию необходимо, в целях самосохранения, сидеть дома и быть одиноким. Если одинок, то сосредоточишься на самом себе, будешь заботиться только о самом себе. Там, где раньше стены были улеплены афишами, сообщающими об увеселениях, о премьерах или концертах филармонии, теперь наркомы и Советы взывают о помощи грозными, охрипшими от битв и приказаний голосами. А сугробы взбираются все выше и выше и закрывают воззвания. И вот по сугробу, на уровне воззваний, уже залепленных снегом, уже неразборчивых, идет монгол Дава-Дорчжи из аймака Тушуту-хана… Дурак монгол! Если ты имеешь три тысячи голов скота, то почему ходишь в рваной шинелишке, и стучишься в незнакомые квартиры, и врешь, и придумываешь легенды о статуях Будды, врешь только для того, чтоб согреться у железной печки? И даже смелости не хватает, чтоб, перед тем как скрыться, сказать: «А я вам наврал, никакого Будды не было в аймаке Тушуту-хана на моей родине. Я голоден и замерз, я думал, в вашей миске остался картофель или даже картофельная шелуха, ибо не знаю же я, что вы съедаете картофель вместе с шелухой».
И профессор с удовлетворением думает, что картофеля хватит на три дня, а если съедать половинную порцию, то на шесть или на неделю. И кроме того, во двор забегала собака из соседнего дома – из квартиры, где живет комиссар продовольствия… Почтенный комиссар продовольствия кормит собаку… Нет, не беспокойтесь, пожалуйста, никакой собаки у комиссара продовольствия нет. Он сам живет голодно, он в дикой кожаной куртке…
Профессор выдумал забежавшую собаку, дабы отогнать мысли об одиночестве, так же как и выдумал монгол статую Будды в своем аймаке Тушуту-хана. Очень нужно Будде опускаться в аймаке Тушуту-хана – грязном, вонючем селении. Там даже вода пахнет падалью, верблюды усеяны огромными клопами, пастухи зубами бьют вшей, а у Будды – «ногти отделаны золотом»… Профессор тихо грозит пальцем: самому себе, легковерному и грустному монголу Дава-Дорчжи, остывшей печке, треску мороза на петербургских улицах…
Но тут в дверь опять стучат. Профессор без шубы, без шапки, со злостью потрясая руками, бежит к дверям и, срывая крюк, кричит озлобленно:
– У меня нет времени записывать ваши глупейшие сказания!
За порогом в кожаной куртке и коричневой кожаной фуражке с изломанным натрое козырьком любезно улыбающийся человек. Он вежливейше и тишайше спрашивает нежным дискантом:
– Разрешите узнать, здесь ли живет многоуважаемый профессор истории Сафонов?
– Никому еще не помогло, что я профессор Сафонов. Ко мне продолжают лезть. Никому это не помогло быть вежливым!
– Виталий Витальевич, если не ошибается адрес? Вы простите, Виталий Витальевич, все же. – И человек в кожанке, наилюбезнейше кланяясь, достает длинный пакет и с гордостью говорит: – Профессору Сафонову от товарища наркома по просвещению в личные руки…
И человек улыбается, потому что теперь-то известно – профессор не закричит, не вздумает возмутиться невежеством. Профессор смотрит на него, и взгляд его говорит: «Могу закричать, но, чтоб не волновать тебя, дурака, не закричу. Почтительнейше беру пакет и почтительнейше раскрываю». Человек понимает мысли профессора, человек хочет быть взаимно вежливым; он даже, сняв перчатки, голой рукой берет крюк и, как бы подчеркивая свою вежливость, говорит:
Читать дальше