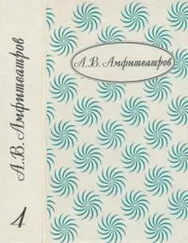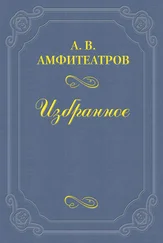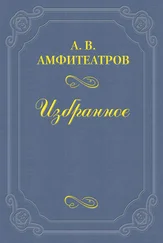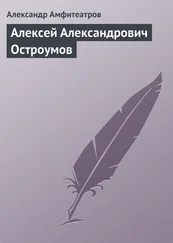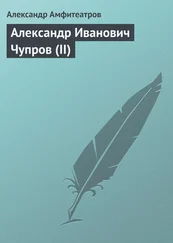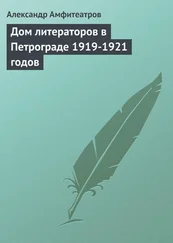— Нельзя сказать, чтобы весело и приятно.
— Да, скверно. Особенно ночи эти… Длинные, угрюмые… Темно. Волки за садом гудут, ветер гудет. Анисья храпит, Арина храпит, а я часам к двенадцати ночи уже выспалась, — и сна у меня, что называется, ни в одном глазу, а в уме, как у сказочной лисицы, когда она сидела на дне колодца, тысячи-тысячи думушек… Из соседей, точно на зло, хоть бы кто-нибудь заглянул за все это время. А, впрочем, пожалуй, и слава Богу: где бы я стала их принимать? Нельзя же гостей, как волков морозить. Когда пали оттепели, приезжает Позаренко. Вы его знаете?
— Нет, незнаком.
— Податной инспектор. Милый малый, — только франт такой, сохрани Боже; всегда tiré à quatre épingles, корректен до тошноты. Ну, рада ему, угощаю, чем случилось, беседуем, смеемся, оба в духе, словно только-что из карантина выпущены. Но вдруг среди разговора, он мне — со всею, свойственною ему, почтительностью. — Извините меня, Виктория Павловна, но, по праву наших дружеских отношений, я позволю себе заметить вам, что вы уже в третий раз говорите вместо «хотя»— «хучь», два раза утерли губы рукою и, когда смеетесь, то как-то странно сипите при этом горлом, — точь-в-точь ваша почтеннейшая Арина Федотовна… И вообще, ужасно у вас в доме стало деревенскою бабою пахнуть… Вот, стало быть, до чего одичала.
Она засмеялась, качая головою.
— Вот моя столовая. Не взыщите: чем богата, тем и рада.
Мы очутились на зеленой лужайке, на которой, под двумя большими сиреневыми кустами, перемешавшими свои ветви, благоухающие белыми и фиолетовыми цветочными шапками, была постлана прямо на траву скатерть, чистая, но драная, как рубище Иова, а на ней сверкали бутылки, жестянки консервов, вилки, ножи… Человек пятнадцать мужчин, весьма пестрых возрастами и одеяниями, возлежали в разных позициях вокруг сиреней, питаясь и выпивая. Шум стоял изрядный…
— Садитесь, Александр Валентинович! — сказала Бурмыслова, опускаясь на землю. — Или, вернее, ложитесь. Вы все о Риме пишете, — так вам такие позы не должны быть удивительны. Словом, помещайтесь и насыщайтесь. Советую заняться закусками. Они и вино у меня всегда хороши. Я, сказать вам откровенно, не знаю, откуда у меня берутся закуски и вино, но сильно подозреваю, что их привозят из города те, кто любят закуски и вино и не обожают моего обеда. Это доказывает их изящный вкус и ручается нам за достоинство закусок. Потому что обед у меня, предупреждаю, действительно, всегда самый наипреотвратительнейший, и прикоснуться к супу моей кухни даже меня, привычную, может заставить лишь полное разочарование в прелести ржаных лепешек и сквозного чая. Потому-что варит обед стряпка Анисья, которая рубцы считает деликатесом, а сластену в бараньем сале — первым из пирожных на земном шаре… Вот — Сеничка Ахметов, студиозус этот, что по левую руку от вас, — Сеничка! вы протяните лапку новому гостю: он не кусается, — Сеничка знает, что это за прелесть. Так как он, изволите видеть, по младости лет своих, не может равнодушно видеть женщин весом от восьми пудов и выше, а Анисья, в благодарность за его поклонение, питает его сластенами…
— Уж вы отрекомендуете! — засмеялся студент— красивый, кудрявый парень с добрым голубым светом в глазах.
И-в таком балагурном тоне — она познакомила меня со всею своею свитою. В том числе и с господами Келеповым и Шелеповым, которые порядком запоздали против нас, не найдя на станции свободных лошадей.
— Это — друг мужа описавшей меня кредиторши, — представила она Шелепова, зеленоватого блондина, с унылым и как бы голодным выражением лица, похожего на судачье рыльце. — А это — сам муж описавшей меня кредиторши.
Келепов, наоборот, смотрел Пугачёвым: черномазый, волосы ежом, косматобородый, рачьи глаза на выкат.
— Келепов, Сергей Степанов, — густо и сочно отчеканил он, — землевладелец здешний…
Виктория Павловна подхватила:
— По прозванию — «бесплодные усилия любви». А этот, — перевела она глаза на Шелепова, — «Покушение с негодными средствами».
Зеленый человек вдруг сделался малиновым и взвился, как боа на хвосте:
— Виктория Павловна! — доколе же вы этою пошлостью меня попрекать будете?
— А дотоле, друг мой, пока сердце мое на вас не откипит.
— Четвертый уж год! Пора бы и забыть.
— Ишь какой забывчивый.
— И еще при постороннем лице!
— При каком это постороннем? У меня посторонних не бывает. Если я позвала к себе, то, значит, свой, а не посторонний… Этот голубчик, — обратилась она ко мне, — кругом посмеивались, очевидно уже знакомые с тем, что она собиралась рассказать, — этот голубчик в спальню ко мне ночью изволил забраться. Как же! Лежу в постели, читаю, — вдруг шорох… глядь: объявилось сокровище… о костюме умолчу, а лицо… нет ли здесь вашего Ванечки, Петр Петрович? нету? Жаль, мне такой гримасы не состроить… Истинно-сладкострастный павиан, который чрезвычайно много мыслит и оттого век не долгий имеет…
Читать дальше