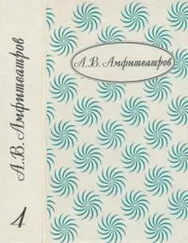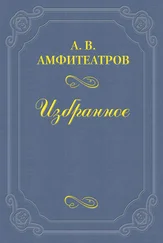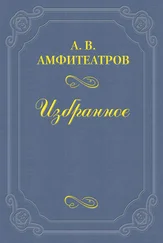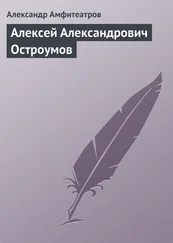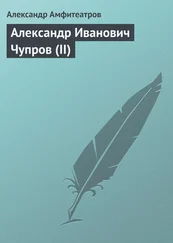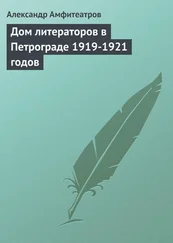— Пестрое знакомство у Виктории Павловны, — подумал я.
Над кроватью висел, без рамы, натянутый на подрамник, портрет-набросок Виктории Павловны масляными красками; смелая, сочная кисть показалась мне знакомою, — в нижнем уголке картины я прочел характерную монограмму знаменитого русского художника-импрессиониста и пометку: «В. П. Б. н. п.л. 189. в. П. Р.», что я перевел: «Виктории Павловне Бурмысловой на память лета 189. в Правосле». Другой портрет той же кисти и тоже неоконченный помещался над умывальником. Он изображал пожилую, но моложавую женщину в темном полушалке цветочками, причесанную под ним по-мещански надвое, гладко и масляно, с белым пробором посредине. Толстое, свежее лицо женщины было красиво чертами, но неприятно выражением острых серых глаз и притворно улыбающегося недоброго рта. Лицо это я как будто уже видал где-то. Однако, вглядываясь, я сообразил, что видел не эту женщину, а необычайно схожего с нею чертами Ванечку, веселого писца моего приятеля Петра Петровича, и догадался, что это его мать, та ключница-домоправительница, о которой меня предупреждали дорогою. Еще портрет — тоже очень большой, но фотографический — стоял на полу, прислоненный к стене по инвалидности. Подставка рамы была сломана, и разбитое стекло треснуло вокруг проломленного места звездою, точно в него швырнули издали чем-нибудь тяжелым. Дама на портрете показалась мне молодою и эффектною издали и оказалась весьма противною и уже лет под сорок вблизи. По-звериному округленные, выпуклые глаза глядели дерзко и бесстыдно; низкий лоб под курчавыми завитками, вздернутый нос с широкими ноздрями и вывороченные негритянские губы придавали этому широкому лицу выражение бесшабашное и, если бы оно не улыбалось, я сказал бы — свирепое; огромное тело было обтянуто какого-то особенно узкою амазонкою, явно рассчитанною удивлять публику преувеличенно развитыми формами дамы. Все в этой особе было аляповато и нагло: нагл жест, которым она, рукою с хлыстом, подхватила хвост амазонки; нагл шаг, которым она ступила на крыльцо, открывая изящно обутую, красивую ногу и рисуясь округлостью колена. В общем она была, пожалуй, декоративна, в деталях отвратительна. Попадись мне на глаза такой портрет в комнате мужчины, я не. колебался бы определить, что оригинал его — проститутка или певица-солистка из низкопробного кафе-шантана. Между «нашими интересными подсудимыми», убивающими своих любовников ради рекламы и газетного шума, тоже попадаются подобные госпожи. Но здесь эти предположения, конечно, оказывались не у места, — тем более, что антипатичный портрет выставлялся на показ с такою невинною откровенностью. Вверху фотографии, на свободном поле серого платинового фона, красовалась надпись размашистым, почти мужским почерком: «Премудрой Витьке от сумасшедшей Женьки. Ялта», год и число. Вот какая интимность, даже до амикошонства, что называется. Стало быть, приятельницы, подружки.
— Пестрое знакомство у Виктории Павловны!
— Чаю вам не будет, — встретила меня хозяйка, когда я вышел, — потому что сейчас станем обедать. Уже стол накрыт, и вся моя команда в сборе. Пойдемте. Надо вас перезнакомить. Мы обедаем сегодня в саду… Это, — кивнула она на стол с красною скатертью и несколькими фантастически-разнокалиберными приборами, поставленный на садовой террасе, — специально для самоубийц. Надеюсь, вы не из их числа?
И она показала пальцем на более чем сомнительные балки косого навеса над балконом.
— Да старенек ваш палаццо, — согласился я.
— Ужас что такое. Решето какое-то. Летом оно, конечно, — сполагоря, а вот зимою… брр… Этакие сараи, а жить негде: холод — все равно, как на дворе. Только одна моя комната — вот, где вы мылись, — еще и обитаема с грехом пополам, а в остальные выйти — приходится шубку надевать.
— Ого!
— А у меня, если топить — не жалеть, все-таки можно нагнать градусов до двенадцати даже в лютый мороз. Вот в прошлую зиму плохо было, когда хватили крещенские. Дров сожгли уйму, — благо даровые, а тепла — ничуть. Так мы до оттепелей все в одной комнате и ютились, втроем, — я, Арина Федотовна, да Анисья стряпка. Сумерки ранние, окна на палец льдом заросли, свечи на исходе, — жаль их жечь, денег стоят… Часов в восемь вечера похлебаем щей, да и спать. Так, втроем, в повалку, под тулупами и спали: вы видели, — кровать-то у меня дедовская, исполин. Анисья моя богатырь-баба, печь ходячая. Арину Федотовну тоже Бог телом не обидел. Ну, между ними морозу ко мне и не добраться. А, проснемся по-утру, — ан, в комнате вода застыла. Шесть недель так прожили.
Читать дальше