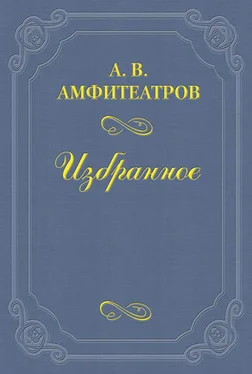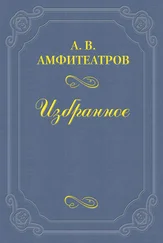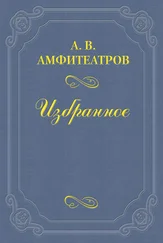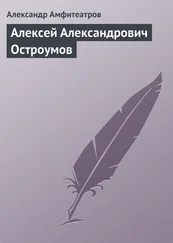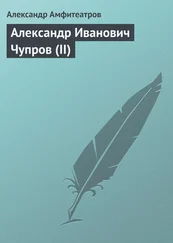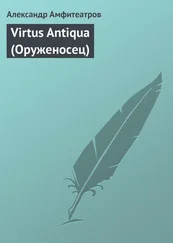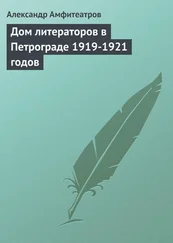Александр Валентинович Амфитеатров
Часовой чести
Мое участие в «заговоре» с Гумилевым
Когда Н. С. Гумилева арестовали, никто в петербургских литературных кругах не мог угадать, что сей сон означает. Потому что, казалось, не было в них писателя более далекого от политики, чем этот цельный и самый выразительный жрец «искусства для искусства». Я не верил и продолжаю не верить в причастность его к тому заговору, за мнимую связь, с которым он расстрелян, – к так называемому «таганцевскому». Здесь он был ни при чем – я имею к этому утверждению вполне определенные основания, – как ни при чем было и большинство из 61 расстрелянных по этому плачевному делу, если только вообще был в нем кто-либо при чем, начиная с самого Таганцева. Вообще же Гумилев не только был способен «быть заговорщиком», но и хотел им быть – страстно искал заговора, к которому стоило бы примкнуть, и с твердостью шел навстречу каждой попытке контрреволюционного действа, имевшей хоть тень правдоподобия.
В ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ НЕ СОСТОЯВШИХСЯ попыток мы оба участвовали, и открыл ее существование Гумилеву и привлек его к ней я по определенному расчету, что он, как бывший офицер, имея большое знакомство в офицерских кругах и пользуясь в них симпатией и влиянием, возьмет на себя организацию боевой подготовки. Он был в восторге, горячо меня благодарил и сейчас же наметил и предложил ввести в заговор еще одно лицо, близкое к «Всемирной Литературе», где мы обыкновенно встречались.
Человек этот – очень умный, солидный, ученый, как будто с большим характером, на словах отъявленный враг большевиков (включительно до благословения на террор), вообще, симпатичный и со всею видимостью «настоящего парня» – казался подходящим и мне. Сошлись втроем и объяснились. Говорил Гумилев, я лишь вносил поправки, когда он ошибался. Человек наш выслушал очень внимательно, с заметным волнением, бледный, – потом, минутку подумав, сказал:
– Господа, благодарю вас за доверие, расстроган им. Проекту вашему сочувствую всею душою и нахожу его вполне осуществимым. Больше скажу: это как раз то, о чем я сам не раз думал и что предложил бы к организации. Но принять участие, простите, не могу. К стыду моему, – сочувствуя, веруя, желая, – все-таки не могу. И не могу именно по симпатии к предприятию, я испортил бы все дело. Признаюсь вам совершенно откровенно: я трус. Наружность у меня такая, что кажется, могу быка с ног свалить, голова – как будто логическая, рассудочная, мыслю правильно, говорю храбро, но – чуть надо действовать, никуда не гожусь: отвратительный физический трус! Вот и сейчас: я только узнал, что есть нечто вроде заговора в близком мне кругу, – и посмотрите вы на меня: хорош? И руки-ноги похолодели, и в животе спазмы… А если я, пойдя на отчаянность, возьму в заговоре ответственную роль, тогда что?
– Что же? По крайней мере, честно, – холодно «резюмировал» Гумилев.
Честно-то оно честно, – доноса «физический трус» не сделал и, вообще, сумел держать язык за зубами, чему, может быть, именно «физическая трусость» – то и способствовала: окаменелое лицо и недвижный взгляд Гумилева, упертый прямо в лицо, должны были хорошо запомниться слабожелудочному горемыке. Но впоследствии, когда Гумилев был уже под землею, а я в далекой эмиграции, наш «физический трус» отлично поладил-таки с большевиками и устроился при них в своей ученой части с совершенным удовольством, имя его мелькало даже в заграничных командировках, в которые, как известно, ГПУ малонадежных своих поданных не пускает. Гумилев был человек большой храбрости и присутствия духа, закаленных и в ужасах великой войны, и в диких авантюрах сказочных африканских пустынь. Такому беспокойному человеку под бурей смутного времени как не быть заговорщиком?
Прибавьте к этому прямолинейную убежденность – своеобразный «холодный фанатизм», не способный к гибкости, бесстрашный в поведении. В обществе товарищей – республиканцев, демократов и социалистов – Гумилев без опасения за свою репутацию громко провозглашал себя монархистом. В обществе товарищей атеистов-богоборцев, вольнодумцев, не смущаясь насмешливыми улыбками, носил на груди большой крест-тельник и крестился на все церкви. Как-то раз я заметил ему – помню, у церкви св. Симеона на углу Моховой, – что подобные демонстрации благочестия, пожалуй, излишни: вызывающе привлекают внимание прохожих, а по существу, бесполезны. Он возразил:
– Надо, чтобы толпа видела, что не вся интеллигенция отстала от Бога и боится Его исповедать. И, кроме того, ведь на лице у меня не написано, кто я таков, а я не хочу, чтобы меня хоть на минуту, случайно, принимали за большевика.
Читать дальше