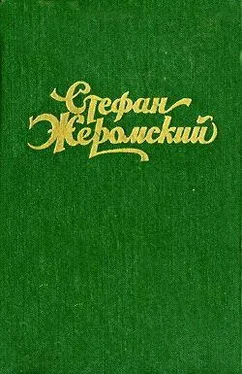Все умирающие иллюзии, как сорвавшийся с цепи ураган, накинулись на него и придавили его тысячами камней. Он еще больше сгорбился и совершенно пришибленный вперил глаза в засохший лист. И вдруг почувствовал, что перед ним кто-то стоит. Это ощущение было до такой степени неприятно, будто его внезапно дернули за волосы. Он поднял голову, лишь когда услышал, что к нему обращаются. У старого камня он увидел незнакомого гимназиста, который дружелюбно смотрел на него. Это был Марцин Борович, в то время уже ученик шестого класса.
– Послушайте, – говорил тот, – я был в коридоре и слышал, как нас выставляли из гимназии.
– Что говорите, пан? – спросил Радек, под воздействием обрушившегося несчастья по-крестьянски выговаривая слова.
Его мутные, полузакрытые глаза были совершенно лишены выражения, нижняя губа отвисла.
– Видите ли, – оживленно говорил Борович, – надо бы найти протекцию к старику. Это единственное средство. Нет у вас в городе каких-нибудь влиятельных знакомых?
– Нет, нету, – быстро ответил Радек и снова опустил голову.
– Погодите, я схожу к Забельскому, попытаюсь его накачать.
Радек еще раз поднял голову, но лишь затем, чтобы убедиться, что незнакомец ушел. Его засасывало темное отвратительное бессилие, не то дремота, не то лихорадочный бред. По-прежнему съежившись, он сидел так до конца урока. Не сразу услышал он, что его опять зовут. Он вскочил и увидел в дверях вестибюля инспектора и стоящего на две ступеньки ниже Боровича. Последний что-то горячо объяснял и жестикулировал. Инспектор еще раз позвал Ендрека, а когда тот остановился перед ним, внимательно посмотрел на него и велел следовать за собой. Вскоре все трое остановились у дверей канцелярии в верхнем коридоре. Борович посторонился, и инспектор один вошел в учительскую. Радек со своим ранцем за плечами стоял перед дверью, как солдат на посту, до самого звонка. Во время пятиминутной перемены его обступили одноклассники и младшие ученики; большинство из них, и старшие и младшие, насмехались над ним. Были и такие, которые глядели на него доброжелательно, иные молчали, а иные презрительно улыбались. Но вот толпа, тесным кольцом окружавшая изгнанника, расступилась и умолкла, так как в дверях учительской появился директор. Гимназический владыка окинул орлиным взором Радека, который инстинктивно вытянулся.
– В последний раз, – сказал он, – прощаю тебе вину. Помириться с Тымкевичем и вести себя прилично. Ты находишься в списке самых подозрительных личностей в гимназии. Здесь драться на кулаки не разрешается! Поэтому перед всеми твоими товарищами заявляю: в последний раз! Малейший проступок – и ты бесповоротно вылетишь. А теперь – марш на урок!
Ендрек шаркнул ногой, размашисто поклонился и пошел в класс. Лицо его было по-прежнему бледно, глаза такие же потухшие, только брови, ноздри и губы судорожно вздрагивали. Когда, окруженный орущей оравой, он уже собирался снова переступить порог класса, его вдруг словно что-то толкнуло; он остановился и стал искать глазами в толпе одно лицо. Но нигде поблизости его не было. Между тем прозвучал звонок, ученики рассеялись в разные стороны, и Радек сел на свое место. Все время, пока шел урок греческого языка, он сидел выпрямившись, устремив глаза на преподавателя, прилежно ловил каждое слово, раздающееся с кафедры, но душа его была вне стен этого класса. Торопливо и напряженно он все время мысленно искал спасшего его гимназиста. В своем столбняке он не запомнил, как выглядит Борович. В сердце его осталось лишь слабое воспоминание о склонившемся к нему лице… И чем дольше он думал, чем пламенней старался вызвать из только что минувшего прошлого фигуру, расплывавшуюся перед глазами, тем все более чудесное, словно бы лунное сияние окружало ее. И невидимые слезы, слезы его души, лились и лились на это чистое видение…
Во время пребывания Боровича в шестом классе там насчитывалось тридцать три ученика. Из мальчиков, которые вместе с ним начали курс обучения с приготовительного класса, до шестого добралось едва десятка полтора. Остальные были второгодники и вновь поступившие. Преобладающее большинство составляли поляки, кроме них было три еврейчика (из них Шлема Гольдбаум твердо удерживал место первого ученика) и двое русских. Вся эта молодежь распадалась на две неравные части, представлявшие собой как бы два общественных слоя или, по крайней мере, два лагеря. Первый, к которому принадлежали Борович, его сторонники, а также русские и евреи, подчинялся влиянию инспектора и представлял как бы маленькую соглашательскую партию; второй был совершенно бесцветен, враждебно относился к первому и придавал большое значение одежде. Как первый, так и второй лагерь включали в себя различные группы, связанные родственными отношениями, жительством на одной квартире, курением общих папирос, списыванием с общих шпаргалок или увлечением одними и теми же гимназистками. Инспекторская группа носила пренебрежительную кличку «литераторов», их противники сами охотно называли себя «вольно-лентяями».
Читать дальше