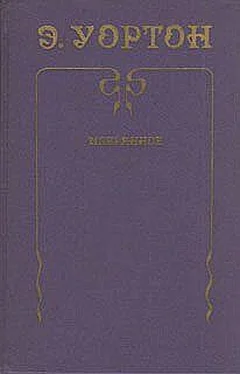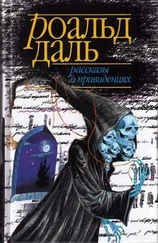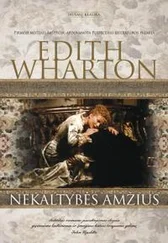— Неужели вы никогда не пытались пожертвовать Нойзом?
— Конечно, нет! В этом просто не было нужды. Бедняга сделал это за меня.
— За вас? Но как?!
— Он надоел мне; надоел всем. Он непрерывно занимался своей жалкой писаниной, приставая с ней к каждому встречному, пока наконец не стал наводить ужас. Я старался отвадить его от сочинительства, но, как вы сами понимаете, очень деликатно: знакомил его с приятными людьми, пытался объяснить ему, чем он действительно может заняться. С самого начала я знал, чем это должно кончиться; я был уверен, что, когда угаснет первый писательский пыл, он войдет в свою роль — роль очаровательного бездельника, этакого вечного Керубино, [215] Керубино — паж в «Женитьбе Фигаро» (1774), комедии французского драматурга Пьера-Огюстсна Бомарше (1732–1799), и в одноименной опере Моцарта.
для которого в обществе, где придерживаются старинных обычаев, всегда найдется и место за столом, и покровительство дам. Я уже видел, как он становится «поэтом» — поэтом, который ничего не пишет. Такие встречаются в каждой гостиной. Подобный образ жизни не требует особых затрат — я все это уже продумал и был уверен, что стоит лишь немного ему помочь, и он продержится несколько лет, а тем временем женится. Я представлял себе его женатым на богатой вдове, гораздо старше его, с хорошим поваром и поставленным на широкую ногу домом. У меня даже была на примете одна такая вдова… А пока я всеми силами способствовал этой метаморфозе — одалживал ему деньги, чтобы облегчить его совесть, знакомил с хорошенькими женщинами, чтобы он забыл о своих клятвах. Но все было напрасно — в его прекрасной упрямой голове была только одна мысль. Он жаждал не роз, а лавров и, беспрестанно повторяя заповедь Готье, [216] …повторяя заповедь Готье… — Теофиль Готье (1811–1872) — французский писатель, поэт и критик, сторонник «искусства для искусства», призывал молодых писателей как можно более тщательно работать над формой и стилем своих произведений.
упорно долбил и оттачивал свою хромающую на обе ноги прозу, растягивая ее на многие сотни страниц. Время от времени он посылал очередную порцию своих трудов издателям, но она всегда возвращалась обратно.
Сначала это на него не действовало — он считал себя «непонятым». Он встал в позицию гения, и всякий раз, как очередной опус возвращался от издателя, писал новый, чтобы составить ему компанию. Затем он пришел в отчаяние и обвинил меня в том, что я его обманул, и бог знает в чем еще. Я рассердился и объявил ему, что обманул себя он сам. Он приехал ко мне, намереваясь стать писателем, и я сделал все от меня зависящее, чтобы ему помочь. Он обидел меня до глубины души, к тому же я старался не для него, а для его кузины.
Казалось, это до него дошло, и некоторое время он молчал. Затем он произнес: «У меня нет больше ни времени, ни денег. Что мне, по-вашему, делать?»
«Я думаю, не надо быть ослом», — ответил я.
«Что вы имеете в виду?» — удивился он.
Я взял со стола письмо и протянул ему.
«Я имею в виду ваш отказ от предложения миссис Эллингер стать ее секретарем с жалованьем в пять тысяч долларов. Кроме того, за этим может крыться многое другое».
Он взмахнул рукой так яростно, что выбил у меня из рук письмо.
«О, я прекрасно знаю, что за этим кроется», — сказал он, покраснев до корней волос.
«Так, может, вы знаете, что надо делать?» — спросил я.
Он ничего не ответил, повернулся и медленно направился к двери. На пороге он задержался и тихо спросил:
«Значит, вы действительно думаете, что мои сочинения никуда не годятся?»
Я был утомлен и раздосадован, и я рассмеялся. Это было непростительно и бестактно. Но в свое оправдание Я должен сказать, что юноша был очень глуп, я же сделал для него все, что мог, право же, все.
Он вышел из комнаты, тихо закрыв за собой дверь. В тот же день я уехал во Фраскати, [217] Фраскати — город в 15 милях от Рима, известный своими прекрасными виллами.
где обещал друзьям провести с ними воскресенье. Я был рад, что отделался от Гилберта и, как выяснилось ночью, я избавился также и от глаз. И, как и в первый раз, после их исчезновения я погрузился в летаргический сон, а утром, проснувшись в своей мирной комнате и увидев верхушки дубов под окнами, я, как и всегда после такого сна, почувствовал страшную усталость и вместе с тем огромное облегчение. Я провел две божественные ночи во Фраскати, а когда возвратился в Рим, Гилберта уже не было… Нет, нет, ничего трагического не произошло — этот эпизод ни разу не возвысился до трагедии. Он просто-напросто уложил свои рукописи и уехал в Америку— к своей семье и, конторскому столу на Уолл-стрит. Он оставил мне вполне благопристойную записку, в которой говорил о своем решении; в этих обстоятельствах он вел себя, в общем-то, настолько разумно, насколько это возможно для глупца.
Читать дальше